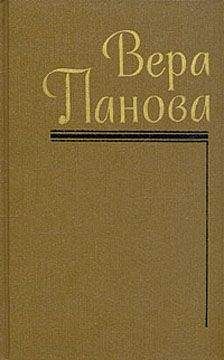Не знаю почему, но многие читатели считают, что если человек написал несколько книжек, то он знает уже все на свете и во всяком деле может дать совет. Меня же многие читатели после «Спутников» посчитали врачом, чуть ли не хирургом, и нередко обращались ко мне с серьезными медицинскими вопросами. Одна женщина, ухаживающая за больной матерью, спросила меня в письме, какое снотворное я считаю наиболее безвредным для ее матери; старик паралитик запросил насчет диеты; неизвестные мне родители справлялись, в какую клинику следует поместить их больного ребенка. И всякий раз мне ужасно неловко было отвечать «не знаю», и порой я начинаю думать, что мы, литераторы, претендующие на то, чтобы приносить людям пользу, обязаны не то что все знать — это, увы, невозможно, — ко, во всяком случае, существовать в окружении всевозможных справочников, в том числе медицинских и правовых, ибо громадное большинство писем заключает в себе вопрос: как обуздать пьяницу и хулигана мужа и разводиться с мужем или нет? Как понятно каждому, особенно всякий раз угнетает меня последний вопрос, ибо тут не помогут никакие справочники, надо быть всевидцем, пророком, а этого не бывает с нами, не могло бы быть с самим Львом Толстым, а что уж говорить о нас, малых сих.
Был один телефонный звонок, я сняла трубку и услышала женский голос:
— Вы писательница Панова?
— Да.
— Мне необходимо повидаться с вами, как можно скорей.
Зная, что некоторые читатели считают нас, литераторов, за совершенных бездельников (подумаешь, действительно, работа — сочинять), я спросила:
— А что значит «как можно скорей»?
— Если можно, сейчас.
— А кто это говорит?
— Ваша читательница, учительница.
— Сейчас, товарищ, я не могу, — сказала я. — А не можете ли вы рассказать ваше дело по телефону?
— Нет, по телефону это нельзя, вы не поймете, да и у меня язык не повернется. Я должна рассказать вам лично, лицом к лицу, даже на ухо, как женщина женщине.
— Это будет не насчет развода? — спросила я.
— Нет, нет.
— И не о том, что муж пьет?
— Нет, нет.
— И не о том, как воспитывать детей?
— Нет, и вы ни за что не догадаетесь, сколько бы ни перебирали. Только тогда поймете, когда я вам расскажу.
— Хорошо, — сказала я. — Тогда давайте встретимся завтра в Союзе писателей, вас устраивает? Скажем, в два часа вам удобно?
— Удобно, спасибо. Так я приду.
Писатель — человек прежде всего любопытный. На другой день с часу дня я сидела в Союзе писателей и не отрываясь глядела на дверь. Я думала: какая она? По телефону голос у нее тихий, мягкий, безответный. И почему-то мне представлялось, что войдет этакая жертва легкомысленного романа, растоптанная жестоким разочарованием, повидавшая виды, крикливо одетая, вызывающе, будто назло всему и всем, причесанная — словом, этакое помятое растерянное дитя неудачно сложившейся жизни.
Ничего подобного. Вошла обыкновенная, абсолютно обыкновенная женщина. Даже серенькая: серенькое платье, невыразительное лицо, чуть седеющие волосы, тишина в чертах и в движениях. Конечно, учительница. И конечно, обделенная женской судьбой и примирившаяся с этим.
Для чего-то она еще раз сказала:
— Так я могу говорить с вами, как женщина с женщиной?
— Безусловно, — сказала я.
И как женщина женщине, на ухо, запинаясь и мучаясь, она рассказала, зачем ей нужно было со мной повидаться и почему ей кажется, что, кроме меня, ей никто не может помочь.
Я передаю ее рассказ в третьем лице, ибо это, конечно, не разговор у казенного письменного стола, забросанного бумагами, а новелла, сочиненная самой жизнью.
Она — ленинградка. Родилась в Ленинграде, выросла в нем, знает наизусть его переулки, мосты, магазины. Но так странно, что в крошечный магазин под вывеской «Пуговицы» в конце Садовой линии Гостиного двора она в тот вечер вошла в первый раз в жизни. Вдруг обнаружила, что надо купить каких-то ерундовых пуговиц для наволочек, вспомнила эту вывеску и пошла. Да, я угадала, ее женская судьба сложилась бесцветно — верней, не сложилась вовсе. Не было ни брака, ни романа, хотя бы неудачного. Ничего не было, и она, думая о себе, называла себя старой девой. Не было ничего, кроме ошибок, одна другой плачевней. Ошибалась, когда у нее зарождалась иллюзия, будто кто-то к ней относится с большей приязнью, чем к другим знакомым женщинам. Ошибалась, когда воображала, что сама к кому-то потянулась сердцем. И даже поводы к ошибкам становились все реже и реже, и жизнь стала казаться бременем, возложенным неведомо за какие вины. В магазин «Пуговицы» она пришла под вечер. Вдоль Садовой уже горели фонари. Было туманно и скользко от жидкой грязи на асфальте. И ровно ничего не ждала она, стоя у прилавка, где под стеклом были разложены пуговицы всяких сортов и размеров. Ровно ничего не ждала в тот миг, когда за ее локоть взялась чья-то рука. Она оглянулась, увидела шершавое пальто, кепку, часть бритой щеки — больше ничего. Разговора она не запомнила. Кажется, он спросил, где она работает. Кажется, сказал, что он тоже учитель. Кажется, попросил разрешения ее проводить. Она не помнила, почему согласилась. Кажется, его твердая рука и запах ворсистого пальто внушали ей доверие «ведь это иногда бывает, правда, товарищ Панова?». И они пошли к ней. Ей стало страшно неловко, когда они вошли в ее комнату. И не потому неловко, что неважно было убрано и наволочки без пуговиц, а — смешно — потому, что на окне не было ни одного цветущего растения, только колючий алоэ да какая-то неказистая пыльная бегония. Это до того выпирало на первый план, что даже как-то не думалось о том, что сейчас произойдет. Просто было совестно, что не завела себе хоть одну веселую гераньку. А когда произошло то, что должно было произойти, обнаружилась катастрофа. Он сказал, что это война его изувечила, и это была правда, но, к стыду ее и вечному проклятию, ей подумалось, что зачем же он ей в таком случае, что это был бы за союз, с какой стати она, никогда не державшая оружия в руках, должна отвечать за ужасы войны. И она сказала ему все это, будь проклят ее язык. Она сказала ему это, и он тотчас ушел, не сказав ни слова. Наклонясь над пролетом лестницы, она смотрела, как опускается вниз, в небытие, его полосатая кепка, и тут только ей в голову пришло все то, что могло бы случиться в ее жизни, если бы эта кепка не исчезла так сразу.
Что она наделала! Она бы купила герань алую или розовую и поставила бы на подоконник, и любовались бы вместе, каким нарядным стало окно. Она заболела бы гриппом, и он из своих рук давал бы ей лекарство и читал ей вслух. Он уходил бы, а она его ждала и вслушивалась, когда же раздастся звонок. Он ее нашел, искал ее долгие годы после войны и наконец нашел в невидном магазинчике под вывеской «Пуговицы». Нашел и угадал среди женщин, толпившихся у прилавка, и так твердо взял за локоть, поверив, что это она. А она прогнала его — из-за чего: того, что так неважно по сравнению с той жизнью, полной взаимного сочувствия и доверия, какая у них могла быть и непременно была бы.