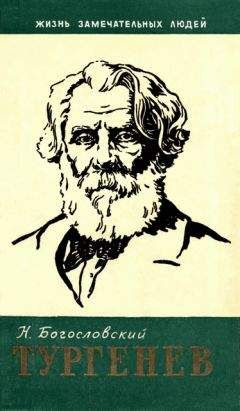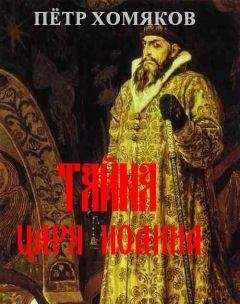Круг литераторов, с которыми у него еще сохранились приятельские отношения, теперь заметно поредел, и на первом плане оказались Анненков, Боткин, Фет, общественно-политические позиции которых далеко не во всем его удовлетворяли. Иногда его даже коробила узость консервативных взглядов Фета или Боткина, и он внутренне отдалялся от них.
Присматриваясь издалека к событиям в России послереформенной эпохи, он видел лишь хаос и неурядицу переходного периода, крутую ломку общественных отношений, разгул реакции. Характеризуя позднее этот период, Тургенев писал: «Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло… Весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная».
Оторванность от России не позволила в это время писателю, как правильно говорил революционный народник Лавров, «заметить сохранившиеся и укрепившиеся живые силы общества и новые пробивающиеся его ростки».
Отойдя от демократического лагеря, порвав связи с передовыми деятелями, Тургенев хотел замкнуться, уйти в себя, забыть о политической жизни, довольствоваться малым…
«А меня Вы, душа моя, — писал он одному из своих земляков, — напрасно шевелите. Моя песенка спета. Так спокойно катится жизнь, так мало сожалений, тревог, что только думаешь об одном: матушка Середа, будь похожа на Вторник, как сам батюшка Вторник был похож на Понедельник. Не поднимайтесь со дна, вы — всякие черные тараканы, болезнь, слепота, глухота, увечье — а больше не надо, не надо ничего. Куда нам бороться и ломать деревья! Благо, чувство к красоте не иссякло…»
Весною 1864 года Полина Виардо выступила в последний раз на сцене парижского театра в роли Орфея в опере Глюка. Она уже утратила прежнюю силу голоса и, сознавая это, намеревалась, оставив сцену, посвятить себя педагогической деятельности.
Относясь с крайней неприязнью к режиму Наполеона III, супруги Виардо приняли решение расстаться с Куртавнелем и Парижем и переселиться в Германию, с тем чтобы открыть в Баден-Бадене школу пения. Они купили себе виллу в предместье этого живописного городка.
С этого времени поселился там и Тургенев. Он тоже приобрел участок земли рядом с виллой Виардо и начал строить собственный дом.
В эти дни Боткин, гостивший у Фета, заехал в Спасское. Оттуда он писал Тургеневу в Баден: «Когда я встал с постели и вошел в твой кабинет, то на меня грустно смотрел твой ягдташ, повешенный на этажерке. Вокруг все чисто, в порядке и в мертвой тишине. Утром ходил по саду и в Петровское. Аллеи покрыты желтыми листьями, дорожки заросли травой, на всем печать тихого, медленного запустения… Но я смотрю на эти места с удовольствием, хотя и с грустным удовольствием. Все напоминает тебя. Страница жизни твоей, долго колеблясь между противоположными ветрами, наконец перевернулась — и в перспективах ее уже не видно ничего общего между тобою и этими юношескими местами».
Тургенев благодарил Боткина за это письмо, несмотря на его грустный колорит: «Оно живо представило мне ту отдаленную деревню, где я провел многие годы моей жизни и куда я едва ли возвращусь…»
Для дочери и ее пожилой гувернантки Тургенев снял в Париже небольшую квартиру, где он и сам останавливался, когда приезжал повидаться с ней.
Скоро в судьбе ее произошла перемена. В феврале 1865 года состоялась свадьба Полины Тургеневой с Гастоном Брюэром, молодым владельцем небольшой стеклянной фабрики в ста двадцати километрах от Парижа.
По отзыву Тургенева, это был человек хороший, добрый и дельный; и ему казалось, что дочь его будет счастлива: «Он образован, хорошей фамилии, а главное, очень понравился моей дочери».
Но жизнь жестоко обманула отца и дочь. Тяжелейшие испытания выпали на их долю. Прошло несколько лет, и, когда у Тургенева появились уже внуки, благополучие семьи Брюэр оказалось разрушенным до основания.
В сентябре 1872 года у Тургенева родилась внучка (Жанна). Вскоре он получил письмо из Москвы от Авдотьи Ермолаевны: «Милостивому моему благодетелю Ивану Сергеевичу. Пожелав Вам доброго здоровья, целую Ваши ручки. Желала бы я знать об Вашем здоровьи и дочери моей Полиньки с мужем. Сделайте милость, не оставьте меня своею милостью; я в продолжение нескольких лет получала от вас пенсию 25 рублей в треть, а теперь четыре месяца, как не получаю, а писала к Вашему управителю Никите Алексеевичу и не получила ответа, и это меня заставило сомневаться в вашем здоровьи. Когда я Вас видела, то просила Вас поместить меня в селе (Спасском), за что бы я была Вами очень, очень благодарна. Еще раз пожелав Вам всего хорошего, прошу Вас уведомить меня о своем здоровье. Остаюсь уважающая Вас Авдотья Калугина».
Неизвестно, как ответил на это письмо Тургенев, но ничего утешительного о дочери сообщить ей он не мог. Дела Брюэра после войны все ухудшались и пришли, наконец, в полный упадок.
В конце 70-х годов Тургенев писал брату Николаю: «Зять мой до последнего сантима просадил приданое моей дочери и, вероятно, в скором времени принужден будет объявить себя банкротом, так что дочь моя и все ее семейство очутятся на моих руках».
За год до смерти Ивана Сергеевича дочь его покинула мужа и на время переселилась к отцу вместе со своими детьми. Возникла необходимость развода. «Пошла возня с адвокатами, стряпчими и т. д., — сообщал Тургенев друзьям. — Процесс может длиться год и слишком; она с детьми должна скрываться; все, что она имела, пропало безвозвратно — может быть, ей даже придется навсегда убежать из Франции…»
Боясь преследований со стороны мужа, Полина Брюэр действительно уехала из Франции и поселилась с детьми в Швейцарии.
Обстоятельства сложились для нее так неблагоприятно, что в дни предсмертной болезни отца она не смогла даже приехать проститься с ним.
Долго бездействовать Тургенев не мог. Не мог удовлетвориться он и писанием «сказок», да еще таких глубоко субъективных и отвлеченно-философских, как «Призраки» и «Довольно».
Стремление продолжать труд добросовестного летописца общественного развития России и на этот раз взяло верх в писателе. Недаром, характеризуя Тургенева как художника, проникнутого общественными интересами, Салтыков-Щедрин говорил, что он никогда не покидал «почвы общечеловеческих идеалов».
В 1865 году Тургенев приступил к работе над новым романом — «Дым», названным первоначально «Две жизни».
Смысл возможности такого названия подчеркнут в сцене поспешного отъезда Литвинова из Баден-Бадена, где произошла после десятилетнего перерыва его встреча с Ириной и второе рождение его любви к ней.
Ирина пришла на станцию, и были минуты, когда она мучительно колебалась, не бежать ли ей вместе с Литвиновым. «Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение — и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни».