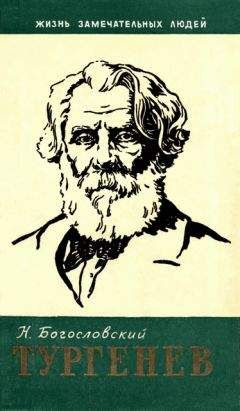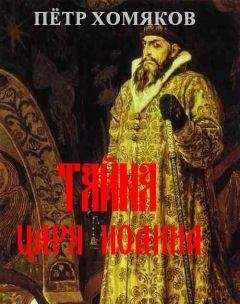Ирина пришла на станцию, и были минуты, когда она мучительно колебалась, не бежать ли ей вместе с Литвиновым. «Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение — и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни».
Но этого не произошло.
Ирина не нашла в себе силы и решимости порвать с великосветским кругом, в жертву которому были принесены ею молодость, красота и гордость.
Она сознавала, что ей придется жить среди мертвых кукол, что от нее ускользает, может быть, последняя возможность начать новую жизнь. Но обстоятельства оказались сильнее ее мимолетного порыва: «…я сама надеялась все изгладить, сжечь все, как в огне… Но, видно, мне нет спасения, видно, яд слишком глубоко проник в меня; видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом».
В процессе работы Тургенев переменил название романа, потому что новое — «Дым» — имело более широкий символический смысл.
В описании душевного состояния Литвинова в ту минуту, когда поезд уносил его из Баден-Бадена, «где осталось столько его собственной жизни», особенно явственно проступает печать тогдашних настроений самого автора.
Ведь даже фраза, выделенная здесь курсивом, взятая из романа, почти дословно повторяет интимное признание Тургенева в одном из его писем 1860 года из Куртавнеля: «…теперь я нахожусь в том доме, куда я приехал пятнадцать лет тому назад и где осталось много-много моей жизни…»
Глядя из окна вагона, как встречный ветер крутил темные клубы дыма по сторонам бегущего поезда, Литвинов увидел вдруг за этой однообразной торопливой и скучной игрой совсем иное.
«Дым, дым», — повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом: все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское. Все дым и пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то — и всё исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул — и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра…»
Каким безверием и горечью проникнуты эти мысли Литвинова!
Материал для этого романа накапливался постепенно со времени приезда Тургенева в Баден еще летом 1862 года. Он поспешил тогда уехать за границу, пробыв на родине гораздо меньше, чем предполагал, потому что был растерян и сбит с толку быстрой сменой событий, тревожными слухами, арестами, повсеместным переходом реакции в наступление.
«Общество наше. — писал он в одном из писем, — легкое, немногочисленное, оторванное от почвы, закружилось, как перо, как пена; теперь оно готово хлынуть или отлететь за тридевять земель от той точки, где недавно еще вертелось; а совершается ли при этом, хотя неловко, хотя косвенно, действительное развитие народа, этого никто сказать не может. Будем ждать и прислушиваться».
Но прислушиваться к тому, что происходило в России, не находясь в самой гуще ее жизни, Тургеневу было очень трудно.
Поэтому действие нового романа было перенесено в обстановку, которую автор имел возможность наблюдать непосредственно в самом процессе творческой работы.
«Дым» открывается фразой, указывающей на время и место действия романа: «10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене перед известным «Conversation» толпилось множество народа…»
Этот «народ» был той накипью модного курорта, где смешалось все: правые и левые, аристократические дамы и парижские лоретки, титулованные шулера и откупщики-миллионеры, дипломаты и степные помещики средней руки, светские львы и игроки в рулетку, молодые генералы (будущие государственные мужи) и эмигранты, считавшие себя революционерами без всяких на то оснований.
Разноликая и пестрая толпа эта послужила как бы фоном, на котором разыгрывалась личная драма Литвинова и Ирины.
Первоначально писатель уклонялся от общения в Бадене со знатными соотечественниками. «Здесь хорошо, — делился он своими впечатлениями с автором народных рассказов Марко Вовчок, — зелено, солнечно, свежо и красиво. Русских много, но все высшего полета — и потому низшего сорта, — и я их избегаю…»
Но когда замысел «Дыма» более или менее определился, Иван Сергеевич стал внимательно присматриваться к заграничной жизни русских аристократов и военно-бюрократической верхушки.
Наблюдения эти, длившиеся по меньшей мере года три, дали ему богатейшую пищу для зарисовок в чисто щедринском духе.
В отличие от всех прежних романов Тургенева «Дым» — произведение в значительной мере сатирическое. Местами это даже памфлет, стрелы которого направлены не только в российский реакционный лагерь, но и в среду политических эмигрантов.
По мысли писателя, оторванность от России, от ее народа, незнание его нужд и интересов были характерны как для реакционного кружка дворянских гвардейцев, которых он иронически назвал в романе «воинами», так и для губаревского кружка эмигрантов.
И те и другие были в глазах Тургенева мутной пеной, отлетевшей за тридевять земель от средоточия русской народной жизни в трудное время больших исторических переломов и сдвигов.
Неверие Тургенева в возможность революционного преобразования России, усилившееся под влиянием развернутого наступления реакции, по-своему отразилось в романе «Дым».
Противоречия, свойственные мировоззрению писателя, обусловили односторонность его подхода к изображению общественно-политической борьбы в ту эпоху. Ярко показав в романе моральное и интеллектуальное убожество закоренелых крепостников из великосветской среды, Тургенев не удержался, однако, от карикатурного изображения деятельности русских революционных эмигрантов.
Он не увидел среди них ни одной достойной и сильной личности, подобной главному герою его предыдущего романа.
О прототипах, послуживших Тургеневу при создании действующих лиц в «Дыме», было немало догадок, — впрочем, далеко не все они были правильны.
Создавая образ Ирины Ратмировой, писатель имел в виду княжну А. С. Долгорукую (в замужестве Альбединскую), фаворитку Александра II, а в образе мужа Ирины — Валерьяна Ратмирова — дал портрет генерал-адъютанта Альбединского, отличавшегося крайней жестокостью и известного расправой с крестьянами в Белоруссии.
По-разному решается вопрос о том, в какой мере был Огарев прототипом Губарева. Безусловно, правы те, кто считает, что вряд ли Тургенев стал бы рисовать грубую карикатуру на человека, о глубоком уважении к которому он прямо заявлял Герцену, не скрывая, однако, от него своего несогласия с политическими теориями Огарева. Рисуя внешний облик Губарева, Тургенев, может быть, внес в него две-три действительные черты наружности и манер Огарева и ограничился этим.