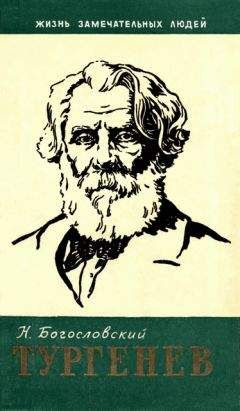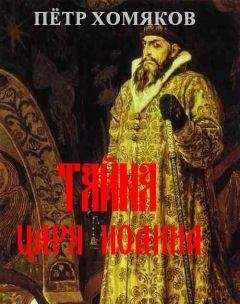Закончив работу над романом, Тургенев в начале 1867 года повез рукопись в Москву, редактору «Русского вестника» Каткову. Но прежде чем сдать ее в печать, он, по обыкновению, прочитал роман в Петербурге в узком дружеском кругу.
В этот приезд Тургенев познакомился с Д. И. Писаревым, дважды посетившим его в квартире Боткина, у которого Иван Сергеевич остановился.
Молодой выдающийся критик, незадолго до этого выпущенный на свободу из Петропавловской крепости, где его продержали более четырех лет, произвел чрезвычайно благоприятное впечатление на Тургенева своим прямодушием, умом и необыкновенной честностью мысли.
Тургенев всегда с интересом читал статьи Писарева, хотя со многим в них согласиться не мог. В частности, вызывало его протест тогдашнее отрицательное отношение критика к поэзии, особенно резко проявившееся в его статьях об «Евгении Онегине» и о лирике Пушкина. Тургенев решил прямо высказать это Писареву, видя, что с ним не только можно, но и должно говорить с полной откровенностью.
— Вы втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений[51] Пушкина, — сказал он ему. — Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали нарочно, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру, — но преувеличение истины, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно!
А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов: стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, обязанный прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, должны обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!
Молча выслушав всю эту тираду, Писарев не возразил ни слова, но у Тургенева осталось впечатление, что критик не согласился с ним.
Во время второй встречи Тургенева с Писаревым присутствовал Боткин. Последний бесцеремонно вмешался в разговор, осыпая «нигилиста» и «циника» Писарева всевозможными нелестными эпитетами.
А «нигилист», напротив, держался во время этого спора чрезвычайно сдержанно и учтиво, как «истый джентльмен», чем еще больше возвысил себя в глазах Тургенева.
После этого свидания Иван Сергеевич уехал в Москву и больше уже не видался с Писаревым.
По возвращении в Баден-Баден он обратился к нему с письмом, выразив сожаление, что не встретился с ним еще раз на обратном пути из Москвы. Он снова свидетельствовал, что очень ценит его талант и уважает его характер.
Хорошо помня интересные, содержательные статьи Писарева об «Отцах и детях», Тургенев просил его высказать свое мнение и о «Дыме».
Писателя особенно интересовало, как отнесется Писарев к изображению эмигрантского кружка Губарева.
«Рассердились ли Вы по поводу сцен у Губарева и эти сцены не заслонили ли для Вас смысл всей повести?» — спрашивал он критика.
Писарев в ответном письме признался, что он не может сейчас выступить в печати со статьей о «Дыме», во-первых, потому, что на его журнале «Дело» лежит печать предварительной цензуры, а для такой статьи необходим некоторый простор, чтобы высказать те мысли, на которые наводит роман. Во-вторых, Писарев считал, что о Тургеневе «надо писать хорошо и увлекательно, или совсем не писать. А я, — продолжал он, — все это время, уже около полугода, чувствую себя неспособным работать так, как работалось прежде, в запертой клетке. Вся моя нервная система потрясена переходом к свободе, я до сих пор не могу оправиться от этого потрясения. Вы видите сами, как нескладно написано это письмо и как дрожит моя рука. Я подожду писать о «Дыме», пока не буду чувствовать себя спокойнее и крепче. Но я передам Вам теперь, насколько сумею, основные черты моего взгляда на Вашу повесть. Из этого очерка Вы увидите сами, почему мне действительно необходим простор».
И далее Писарев набрасывает в письме как бы сжатый конспект статьи о романе Тургенева, оценивая это произведение с присущей ему прямотой и твердостью.
«Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Есть русская пословица: дураков и в алтаре бьют. Вы действуете по этой пословице, и я с своей стороны ничего не могу возразить против такого образа действий. Я сам глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками. Далее, я вижу и понимаю, что сцены у Губарева составляют эпизод, пришитый к повести на живую нитку, вероятно, для того, чтобы автор, направивший всю силу своего удара направо, не потерял окончательно равновесия и не очутился в несвойственном ему обществе красных демократов. Что удар действительно падает направо, а не налево, на Ратмирова, а не на Губарева, — это поняли даже и сами Ратмировы.
При всем том «Дым» меня решительно не удовлетворяет. Он представляется мне странным и зловещим комментарием к «Отцам и детям». У меня шевелится. вопрос, вроде знаменитого вопроса: Каин, где брат твой Авель? Мне хочется спросить у Вас: Иван Сергеевич, куда Вы девали Базарова?
Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова. Вы подводите итоги с его точки зрения, Вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов— это тот самый друг Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво.
Чтобы осмотреться и ориентироваться, Вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем, как в Вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую Вы же сами открыли и описали. Что же сделалось с этой каланчой? Куда она девалась?.. Неужели же Вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца?
Или неужели же он, с 1859 года, успел переродиться в Биндасова? Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что Вы его не заметили? Ведь это значит не заметить слона… А если Вы его заметили и умышленно устранили его при подведении итогов, то, разумеется, Вы сами отняли у этих итогов всякое серьезное значение…»