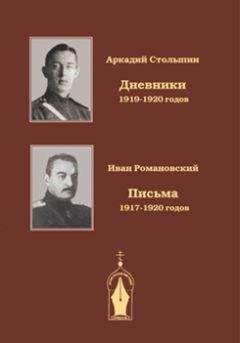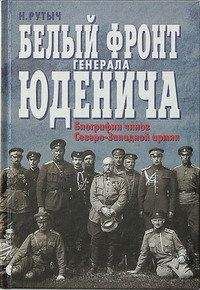В большом зеркале смутно белела кровать, сквозь опущенные шторы с трудом просачивался осенний поздний рассвет, на белом фаянсовом чайнике, забытом много вчера на столе, трепетал похожий на маленькую бабочку отблеск зимнего дня.
Я долго лежал в кровати. Передо мной открывался большой и пустой день: лекций в университете не было, я никого не ждал, и мне не к кому было пойти. Я еще раз попытался восстановить исчезнувший сон, но ленивая память была пуста и равнодушна.
Я шире раздвинул шторы. Серая крыша дома на другой стороне улицы была мокра от дождя, черные трубы терялись в тумане. Неожиданно в окне третьего этажа, в квартире, которая до сих пор пустовала, промелькнуло белое платье, но сколько я потом ни смотрел, уже ничего не было видно: чьи-то невидимые руки задернули кружевную занавеску. Внизу, на мокрой улице, проехал большой грузовик, и на блестящем асфальте остался матовый след шин. Фрау Фалькенштейн постучала ко мне в дверь, спрашивая, не хочу ли я горячей воды для бритья.
Бреясь (занятие не слишком сложное — усы, правда, уже росли, но на подбородке появлялся лишь еле заметный пушок), я подумал о том, что следует пойти в городскую библиотеку, и еще раз просмотреть репродукции микеланджеловских скульптур, и подготовиться к будущей лекции Гильдебранта. Кроме того, у меня в кармане пиджака больше недели лежали варианты тютчевского перевода знаменитого четверостишия Микеланджело «Grato m’el sonno, e piu lesser di sasso». Каждый вариант мне казался совершенством, и я не мог понять, чего добивался Тютчев, столько раз переделывая их.
Когда я вышел на улицу, все было мокро: асфальт, дома, автомобили, лысый скверик на Донхофплац, черные пузыри зонтиков покрывали Лейпцигерштрассе, и желтые трамваи проплывали, как глазастые большие рыбы. Я направился в сторону библиотеки. Когда я пересекал Унтер-ден-Линден, мимо проехала большая черная машина.
В блестящем лаке, каким-то чудом не забрызганном грязью, отражались выпуклые дома, кривые столбы фонарей и серое небо. Внутри, за зеркальным стеклом, я увидел глубокого старика, завернутого в шубу с широким каракулевым воротником. На секунду мелькнули его широко раскрытые глаза, мне показалось, что он видит одного меня, остановившегося на краю тротуара. Я вспомнил роман Андрея Белого «Петербург» и подумал, что вот в такой не запятнанной грязью карете, должно быть, ехал министр внутренних дел Плеве, когда Сазонов бросил в него свою самодельную бомбу. Но старик, его волшебный лакированный «мерседес», дождь, хлеставший мне в лицо, — все это было этим, реальным миром, а я еще продолжал бессознательно ловить мой оборвавшийся сон.
В библиотеке, усевшись в кожаном кресле с круглой спинкой, перед зеленым абажуром настольной лампы, — дневной сумрак настолько сгустился за окнами, что на всех столах зажглись электрические грибы, — я открыл монографию, посвященную Микеланджело. Я долго рассматривал его мужественное лицо, которому сломанный нос придает особенное, мучительное и напряженное выражение. Отыскав репродукцию «Ночи» — саркофаг Юлиана Медичи был воспроизведен во многих деталях, и фигура полулежащей женщины, подперевшей голову рукой, занимала целую страницу, — я вытащил из кармана подстрочник микеланджеловского четверостишия и ва— рианты тютчевского перевода. «Grato m’el sonno, е piu l’esser di sasso…» («Приятен мне сон и еще больше быть камнем…») Тютчев перевел четыре раза, в первый раз с итальянского на французский: «Oui, le sommeil m’est doux! Plus doux — de n’etre pas!» («Да, сладок сон! Еще слаще — не быть!») В утверждении «да» и целых двух восклицательных знаках в первой строчке — характерный «ораторский» прием тютчевской лирики. В этом варианте — единственном — Тютчев, переводя последнюю строку: «Craignez de m’eveiller… de grace, parlez bas»… (по-итальянски: «Рего non mi svegliar, dah parla basso…»), перевел последние слова стихотворения: «Говорите тихо». Каждый из русских вариантов мне казался совершенством, и трудно было догадаться, что не удовлетворяло переводчика. Я знал причину, побудившую Тютчева взяться за перевод: подавленное настроение, охватившее его при известиях о неудачах Крымской кампании, знал и отношение Тютчева-монархиста, Тютчева-цензора к Николаю I. «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека…» — писал он жене вскоре после смерти самодержца. Поводом для написания Микеланджело его четверостишия было стихотворение Строцци, в котором современник Буонаротти, восхищаясь удивительным реализмом скульптуры, говорит о том, что достаточно разбудить «Ночь» для того, чтобы она заговорила.
Чем объяснялась упорная работа Тютчева, что он хотел передать — точность подлинника или свое собственное, тютчевское настроение, во многом, но, может быть, не во всем совпадающее с настроением Микеланджело?
Я перечитывал подстрочник и варианты, выписанные на отдельных листках. Самым близким к итальянскому тексту был вариант, начинавшийся тою же фразой, что четверостишие Микеланджело и его перевод на французский язык:
Мне любо спать — отрадней камнем быть.
В сей век стыда и язвы повсеместной
Не чувствовать, не видеть — жребий лестный
Мой сон глубок — не смей меня будить.
Вторым по близости к итальянскому тексту был следующий:
Отрадно спать… отрадней камнем быть.
О, в этот век — преступный и постыдный —
Не жить, не чувствовать — удел завидный…
Прошу: молчи — не смей меня будить.
По сравнению с первым вариантом бросалось в глаза, что вторая и третья строка переведены по-другому. Я сравнил перевод с итальянским текстом:
Mentre che il danno e la vergogna dura,
Non sentir, non pensar e gran ventura…
(Пока зло и позор продолжаются, не чувствовать, не думать для меня (большое счастье…) Изменения могли, конечно, объясняться техническими требованиями перевода, желанием избежать архаического «сей», но объяснить замену слов «не видеть» словами «не жить» было трудно. Я перешел к третьему, окончательному варианту:
Молчи, прошу. Не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный…
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
Первая и четвертая строка поменялись местами. Это изменение уже не могло объясниться техническими требованиями — поисками новой рифмы, желанием заменить одно слово другим, более близким к итальянскому тексту. Изменено только начало четвертой строки, ставшей первой: «Прошу: молчи». Тютчев, переставив слова, изменяя и смысловое ударение: «Молчи, прошу». Ударение на слове «молчи» увеличивала и точка, поставленная вместо тире. Изменение порядка строк было сознательным отходом от подлинника, вызванным волей переводчика выразить свою мысль, подчеркнуть свое отношение к миру. Стихотворение, не переставая быть микеланджеловским, становилось тютчевским: «Отрадно спать, отрадней камнем быть». Микеланджело видел перед собой созданную им статую, так понравившуюся Строцци, и говорил от имени статуи, что ей приятен сон, но еще приятней быть камнем, Тютчев, забывая о статуе, говорит о том, что он сам хочет стать камнем. Его уже не вернет в этот мир не только тихий, но и грозный голос, он хочет «не жить».