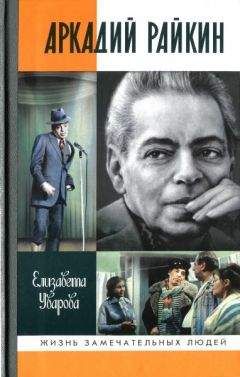Ознакомительная версия.
Здесь обязательно следует пояснить, что такое подпольный, или конспиративный, театр. Во время войны их в Польше было немало – только в Варшаве 30 и 12 в Кракове. Маленькие труппы из профессионалов, полупрофессионалов и любителей, почти без декораций, собирались каждый раз на разных квартирах и разыгрывали представления. Конспирация соблюдалась тщательная. Театр «Рапсодичный» (в переводе – ода), созданный доктором Мечиславом Котлярчиком в 1941-м, был один из самых сильных и известных в Кракове. Несмотря на то, что труппа насчитывала не более семи человек, играли и репетировали по семи адресам. Один из артистов – молодой рабочий каменоломни Кароль Вой тыла.
На сегодняшний день от «Рапсодичного» в живых остались Халина Квятковская и Данута Михайловска в Кракове. Я разыскала их. Квятковская, аккуратная, подтянутая пани, сидящая передо мной в театральной школе, оказалась родом из Водовиц – из тех мест, что и бывший Папа.
– В Кракове немцы разрешили только один театр «Повшехне», и там играли только комедии Александра Фредро. Они хороши, но не в военное время. Но поляки бойкотировали его. Вообще все было на немецком языке, на польском – одна пропаганда. В одном кинотеатре крутили немецкое кино, а поляки на заборах по ночам писали: «Только свиньи сидят в кине».
– Опасно было работать?
– Знаете, при коммунистах после войны было опаснее: «Рапсодичный» несколько раз закрывали. Может, это я так сейчас говорю, когда физической опасности нет, но вообще мы конспирацию соблюдали строго. Если кто-то чувствовал, что за ним следят, месяц не появлялся в театре.
Риск действительно был огромный и для зрителей, и для артистов. В городе постоянно шли облавы, их поляки называли «лапанки», начались казни – первая публичная состоялась в 1942 году, и она потянула цепь других убийств. Университетских профессоров, художников, артистов арестовывали, и 183 из них были отправлены в Освенцим. Запретили польскую литературу. И в такой обстановке по вечерам в разных местах города поднимался занавес, начинался театр. Аскетически скромный, он держал дух нации. Артисты словом помогали полякам оставаться поляками, людям – людьми.
Но больше всего меня потрясает тот факт, что за время работы театра «Рапсодичный» (впрочем, как и в других труппах Кракова) с начала оккупации и до января 45-го года, когда войска 1-го Украинского фронта вошли в Краков, в театре не случилось ни одного предательства.
– Я не понимаю, почему вас это удивляет? – спрашивает меня пани Михайловска. – Это невозможно, потому что… невозможно. Вот и все.
Поляки как раз не удивляются тому, что среди зрителей и артистов подпольного театра не было предателей. Это озадачивает только русских, привыкших к предательствам даже в близком кругу.
– Понимаешь, разница в менталитетах, – говорит известный кинорежиссер, мастер исторических фильмов Ежи Хоффман. – Мы, 200 лет борясь за независимость, научились верности, а вы за несколько лет после революции у себя все испортили.
Подпольный театр Польши помнит лишь единичный факт предательства – в Варшаве. Участники движения Сопротивления, когда вычислили артиста-иуду, тут же его расстреляли. В Кракове такого не было.
– Но если вы были так уверены в своих товарищах, то откуда такая уверенность в зрителях? Откуда вы знаете, кто приходил на квартиру, где играли спектакли? – настаиваю я.
– Зрители были наши друзья. Друзья приводили своих друзей. Конечно, их никто не проверял, но мы как будто делали одно дело.
А каким в то время был Кароль Войтыла? И что он представлял из себя как артист? Может быть, был заурядным любителем, у которого хватало смелости выступать во время войны? А после нее остался бы рядовым артистом, каких немало?
Каролю Войтыле в начале войны было 20 лет. Его физический портрет того времени: строен, сухопар, светел лицом. Работал в каменоломне, играл в футбол, катался на горных лыжах. Его несложно представить на фоне занавеса с бледной маской поэта, читающего из классиков – Мицкевича, Словацкого, Норвида…
– Кароль был одарен прекрасным голосом, незаурядной дикцией, – говорит Халина Квятковская. – Я бы сказала, он был актером интеллектуальным, все роли пропускал через интеллект. Исполнение их у него получалась все глубже и глубже. Такой одаренный парень был.
– Как вы считаете, после войны, останься он в театре, он стал бы хорошим актером?
– Нет, не хорошим. Наверняка – блестящим. И потом, когда я видела его, я видела, как он пользовался тем, что приобрел тогда. Теми же средствами во время проповеди, в своих диалогах с паствой. Все это он умел благодаря практике в «Рапсодичном».
А вот и дом, где с 1939 по 1943 год жил будущий Папа. Улица за Вислой, тихая, да и весь квартал, где находится дом, скорее похож на элитный дачный поселок физиков, а может, и лириков, в лучшие для них времена. Дом из серого камня в два этажа, сетка-рабица огораживает небольшой сад возле него.
– Холера! – послышался ломкий мальчишеский голос, когда я постучала в дверь, не найдя звонка. Эта грубая «холера» как-то не вязалась с особенной историей этого дома и святостью его прежнего жильца.
Но дверь все-таки открыли, и на пороге появилась пани в розовом, несколько неряшливом халате, из-за спины которой выглядывал ушастый подросток. Ее облик окончательно развеял надежду увидеть музей в этом странном доме.
– Да, здесь жил Папа, – скорей устало, чем радостно, подтвердила дама, передергивая плечами от вечерней сырости. – Теперь это государственная квартира, и я с детьми живу здесь уже 8 лет. Детей четверо, воспитываю одна. Да ходят тут журналисты, всё расспрашивают.
– А можно посмотреть квартиру?
– Нет, не стоит. Здесь все теперь переменилось. Лучше сад посмотрите.
Артисты «Рапсодичного» вспоминают, что комната низкого первого этажа, которую занимал Войтыла, была бедная, убогая и в театре ее называли катакомбами. В «катакомбах» репетировали спектакли по средам и субботам и старались разойтись до комендантского часа. Сюда, на Тынецкую, переехал Мечислав Котлярчик, когда его брата, тоже артиста, вместе с другими арестованными отправили в Освенцим. Здесь Войтыла и его режиссер много говорили о театре вообще и о «Рапсодичном» в частности. Котлярчик формулировал принципы театра и актерской игры. Они были чрезвычайно строги к себе и коллегам: артист – это монах. А театр – никаких поз, роз, фальшивых слез. Он – как комментарий к великой, запрещенной немцами литературе. И никаких декораций, причем не по причине бедности, а скорее из принципа. Только занавес, на котором бледная маска поэта и свеча…
Ознакомительная версия.


![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [Только текст]](https://cdn.my-library.info/books/42323/42323.jpg)