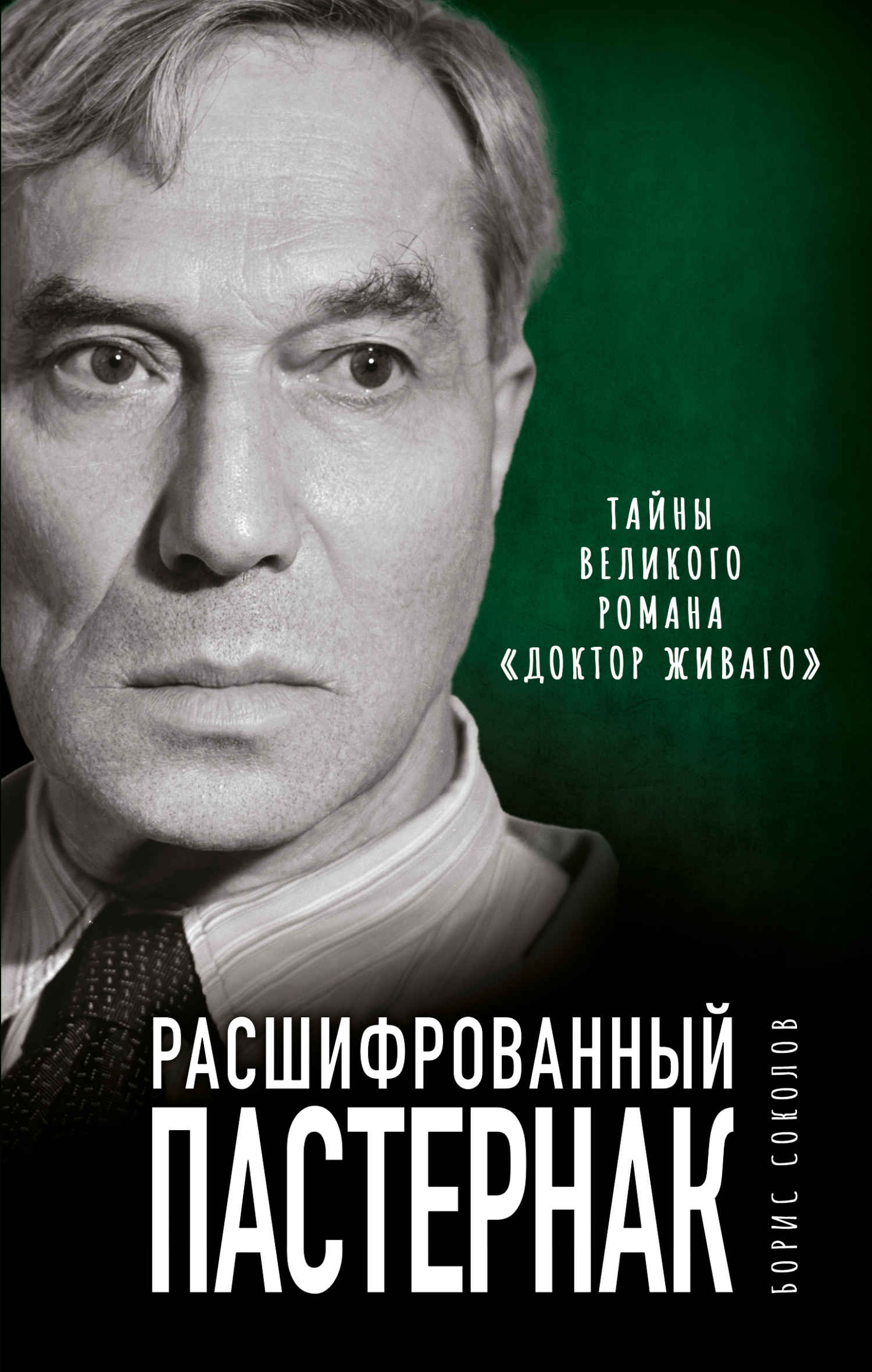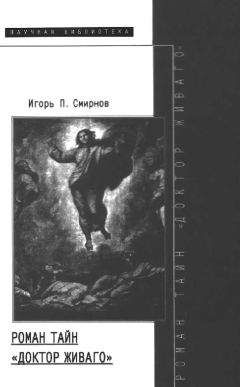без которого нет бессмертья… Я почувствовал, что только мириться с административной росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику».
Сходные мысли звучат в письме к Н.Я. Мандельштам, относящемся к ноябрю 1945 года: «Неожиданно жизнь моя (выражусь для краткости). активизировалась. Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на Западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем мог я предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи, и также сильно усложнило жизнь внешнюю. Она трудна в особенности потому, что от моего былого миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об этом заявлять. И они, разумеется, правы, что в долгу передо мной не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у меня нет выбора».
И о том же 23 декабря 1945 года поэт писал О. М. Фрейденберг: «В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое».
От духовного гнета советской системы Пастернак в войну окончательно освободился. Теперь ему казалось, что это чувство свободы на этот раз сможет получить выход в печать. 26 января 1946 года он писал Н.Я. Мандельштам: «У меня есть сейчас возможность поработать месяца три над чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10-12-ти главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что может что-нибудь случиться до окончания работы! И как часто приходится прерывать!» А на следующий день, 27-го, он писал Сергею Дурылину: «Я, как угорелый, пишу большое повествование в прозе, охватывающее годы нашей жизни, от Мусагета (символистского издательства, в одном из поэтических кружков при котором состоял Пастернак. - Б.С.) до последней войны, опять мир «Охранной грамоты», но без теоретизирования, в форме романа, шире и таинственнее, с жизненными событиями и драмами, ближе к сути, к миру Блока и направлению моих стихов к Марине (Цветаевой. - Б. С.). Естественна моя спешка, у меня от пролетающих дней и недель свист в ушах». В этом письме поэт обозначал родство своей прозы с произведениями символистов, хотя сам формально никогда не принадлежал к этому литературному направлению.
После августа 1946 года, погромного постановления о Зощенко и Ахматовой, надежды на освобождение рухнули, но теперь-то работа над романом и пошла полным ходом. Эпоха завершилась, и ее надо было успеть описать.
5 октября 1946 года Пастернак сообщал Ольге Фрейденберг: «А с июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902-1946 годов, и с большим увлеченьем написал четверть всего задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года - первые шаги на этом пути, - и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаниями твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, - а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе».
В следующем письме кузине, от 13 октября, Пастернак более подробно излагал замысел романа: «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами этого сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, - эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме) (неслучайно национальные у персонажей - только фамилии, а без них Комаровского никак не примешь за поляка, а Галиуллина - за татарина. Пастернаку важно было выразить в романе то вечное и наднациональное, что не сводится ни к одной национальности, ибо Христос выше и эллина, и иудея. - Б. С.) , со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности.
Атмосфера вещи - мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.
Это все так важно, и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов».
В 1947 году вариантами названий были «Нормы нового благородства», «Земной воздух», «Живые, мертвые и воскресающие» и «Рыньва». Последнее - это упоминаемое во второй книге «Доктора Живаго» название «знаменитой судоходной реки», на которой стоит город Юрятин. Оно образовано от слов языка коми «рын» (настежь) и «ва» (вода), т. е. «река, распахнутая настежь». Один из синонимов этого названия - «река времен, река жизни». Также значим топоним «Юрятин» - образован из личного имени «Юра» и палиндрома к слову «нить». Его можно трактовать в значении «судьба». А название «Варыкино», возможно, происходит от иконописной краски киноварь и вызывает христианские ассоциации. Вообще же под вымышленным Юрятиным подразумевается Пермь, дважды занимавшаяся белыми и дважды - красными.
Роман был для Пастернака делом всей жизни. Это было то произведение, с которым не стыдно было предстать перед Богом. Он хотел высказать все, что наболело, без какой-либо оглядки на цензуру и независимо от того, как неуемное желание говорить правду и одну только правду скажется на его положении в стране победившего социализма. Пастернак готов был все поставить на эту карту. Или почти все. Он так и писал Фрейденберг 24 января 1947 года: «Я сделал, в особенности в последнее время (или мне померещилось, что я сделал, все равно, безразлично), тот большой ход, который в жизни, игре или драме остается