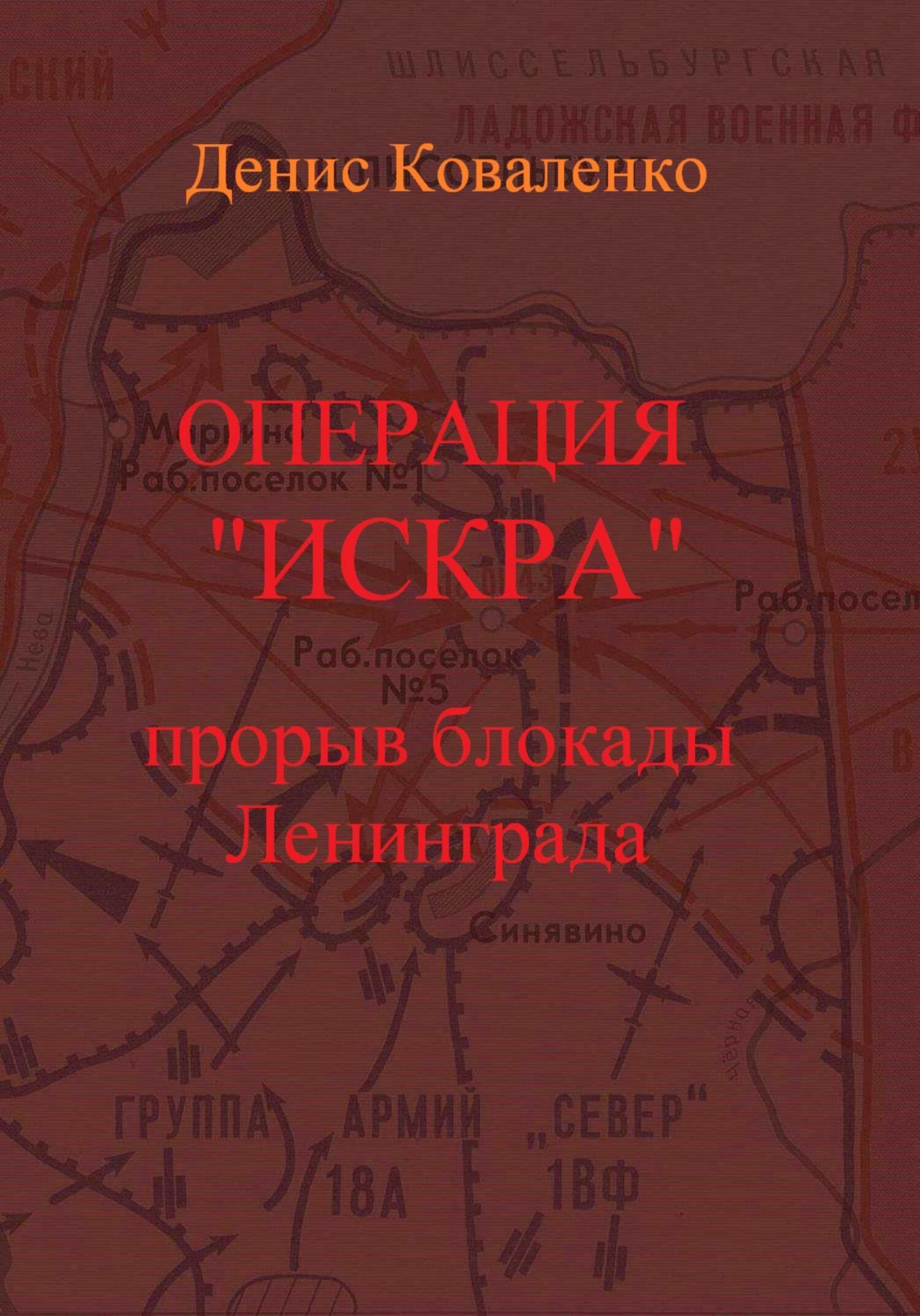уже в 42-м.
Павлик тоже дома во сне умер. Видимо сердце остановилось. А мама от голода. Она работала на окопах, им давали побольше хлеба. Но она не съедала, приносила в семью, делила на всех. А потом и она не смогла ходить на работы, силы покинули.
Мамы не стало весной, и я осталась одна. Не было уже ни страха, ничего. Механически как-то жили.
А потом кто-то меня отвел в детский дом.
В детском доме в Ленинграде десятилетняя Надя пробыла, впрочем, недолго.
— Помню, привели меня в здание моей бывшей школы и сразу вымыли. И там все чистенько, беленько. Потом завели в столовую, дали манной каши две ложки. Много сразу нельзя. Но с настоящим маслом. На другой день дали какао и кусочек хлеба. Вот этот запах какао я до сих пор помню, — на глазах Надежды Михайловны выступили слезы, она надолго замолчала. Потом, преодолев волнение, продолжила рассказ. — Набрали нас, какое-то количество, человек двадцать, наверное, прислали тетеньку из РОНО — Вера Ивановна и сопровождал нас в эвакуацию. Ехали в телячьих вагонах, на соломе. Очень страшно было на Ладоге. Весна, лед уже рыхлый, подтаивает. Перед нами машина с ребятишками утонула. Нас специально чем-то прикрыли, чтобы мы ничего не видели. Но такой крик стоял. Такой крик! Ну а наш шофер как-то вывернулся, миновал благополучно все проталины.
Приехали в Краснодарский край, станица Родниковская.
Как там встречали — никогда не забыть. Даже воды не давали — только парное молоко. И все с уговором: «Пейте, детки! Пейте, поправляйтесь!..» И одно несут поесть, и другое. Рядом сад фруктовый — нам разрешили свободный вход. И одели в платьица такие красивенькие.
Но потом немцы к станице подошли, и сказка кончилась. Вера Ивановна спешно побросала ленинградскую малышню в машину, на железнодорожной станции перетаскали их на платформу с углем — больше мест не было. И только отъехали, как все станционные постройки были взорваны.
На этот раз путь лежал еще дальше на юг — в Киргизию. Там и прожили все страшное военное лихолетье — 42-й, 43-й и 44-й годы.
Детдом здесь был большой, смешанный, мальчиков и девочек общим числом человек сто с лишним. Поэтому помещений не хватало, на кровати по двое спали.
— Сейчас школу вспомнила — училась я хорошо. Не отличница была, но хорошистка. Мне даже подшефных назначали, чтобы я с ними занималась. Один раз сижу на уроке — все знаю, спокойна. А сзади сидит киргизенок и шепчет: «Надья. Надья…» Я говорю потихонечку: «Че тебе надо?» — «А пошишишевелями». Как он сказал это — я расхохоталась. Не смогла стерпеть. А я ушами шевелила — вот он и сказал «пошишишевелями». И за этот свой хохот получила двойку. За то, что урок сорвала. Возвращаюсь в детдом, воспитательница спрашивает: «Ты почему получила двойку?» — «Киргизенок меня рассмешил». — «Так могла бы сдержаться». — «Не могла…» — «Так я тебе тогда два наряда». — Я: «А почему два? Обычно положен один. Ведь я же один проступок сделала…» В общем заставили меня туалет мыть два раза и без обеда оставили.
— Даже так?
— Ага. Но когда все спать легли, тихий час у нас был — подходит: «Надя, пойдем, я тебя покормлю» — «Ну уж нет. Наказали — так наказали. Никуда я не пойду, ничего мне не надо». — «Ты же голодная?» — «Пусть. Буду голодная, но не пойду…»
— Гордая были?
— Гордая.
Или еще случай. Как-то отличникам и хорошистам выдали к празднику новые наряды: отличникам — платья красивые, мне дали кофту с юбкой. Тоже красивые. А отличнице платье не подошло. Воспитательница подходит ко мне и говорит: «Надя, поменяйся с Гульсарой. Тебе платье подойдет, а ей юбка…» Я обиделась: «Забирайте тогда все, не надо мне ничего». И ушла с вечера. Ушла в конюшню. А меня потеряли, везде искали. Я же без ужина остаюсь. Потом пошла домой. Спрашивают: «Ты где была?» — «В конюшне». — «Че там делала?» — «Серу колупала. Ужина-то мне нет, так серу жевала…»
Не голодный. Но кушать хочется
— В Киргизии поля большие. Там мак и пшеница — зернышки прямо светятся. Так мы что делали, чтобы еще покушать. Берем наволочку и потихоньку туда. Ползком — нас и не видно. Нашелушим уголок и на курае, на всяких веточках эту пшеницу жарим. Очень сытно. Потом мак. Головки оторвем — и тоже в наволочку. Потом расщепим головки, зернышки пожарим — мак такой пышный становится. Такой вкусный. Опять наедимся. И травы много ели. Вернее, веточки молодые — они очень мягкие и очень сочные. Лопухи ели. Сам лопух, когда большой вырастет, — сам стержень. Мы его срежем, очистим — потом рот весь черный.
Надежда Михайловна задорно смеется.
— Порой отрывали от простыни тряпочку и сшивали куклу. Набьем ее чем-нибудь при этом — той же соломкой. И киргизам меняли на фрукты: на абрикосы, на урюк. На яблоки. Кто чего даст. И они довольны игрушечной куклой, и мы в выигрыше.
Еще мы любили прилататься к кому-то, подружиться. Вот и я думаю: к кому же мне-то прилататься. Вроде не к кому, все разобраны. А потом в столовой в окошко заглянула — а там повариха. Ну, назвала ее вежливо, уважительно, по имени и отчеству. И говорю: «Можно я к вам прилатаюсь?» Она не понимает: «Это как?» — «Ну что непонятно? Значит я буду вашей латкой...» — «А что мы будем делать? Лататься — это как?» Я ей рассказала, что это означает дружить… Так она потом все время мне то горбушку хлеба даст, то супу нальет, то каши. Я хвалюсь подругам: «Вот прилаталась, так прилаталась с прямой выгодой…» А девчонки хохочут…
В детдоме нас научили порядку. До самой старости я дожила и как бы ни была больна — но дома у меня всегда должен быть порядок. Это закон. Научили прясть. Дали для начала шерсть — вот ее растребушите. Спрядите. А как прясть-то? Дали палочки кругленькие. Картошенку. Туда гвоздик воткнули. И мы начали учиться прясть. Научились. Потом стали учить вязать. Рукавицы, носки. И вдруг у нас шерсти не хватило. А в Киргизии, как известно, много баранов. Мы и поймали такого барана, мальчишек попросили, — они нам его и остригли. В общем облысили начисто. И отпустили с миром — иди, барашек. Жарко было в «шубе», сейчас будет прохладно. Шерсть эту сначала спрятали. Неровен час, придут искать и найдут — что тогда? Попадет ведь. Вдруг видим: бегут киргизы. Ай так-так. Что-то там бормочут. Ругаются. Воспитатели приходят: «Кто сделал? Кто барана обстриг?» — «Не знаем ничего. Не видели…» В общем, не признались. А шерсть потом распределили. И все довязали. Все, что