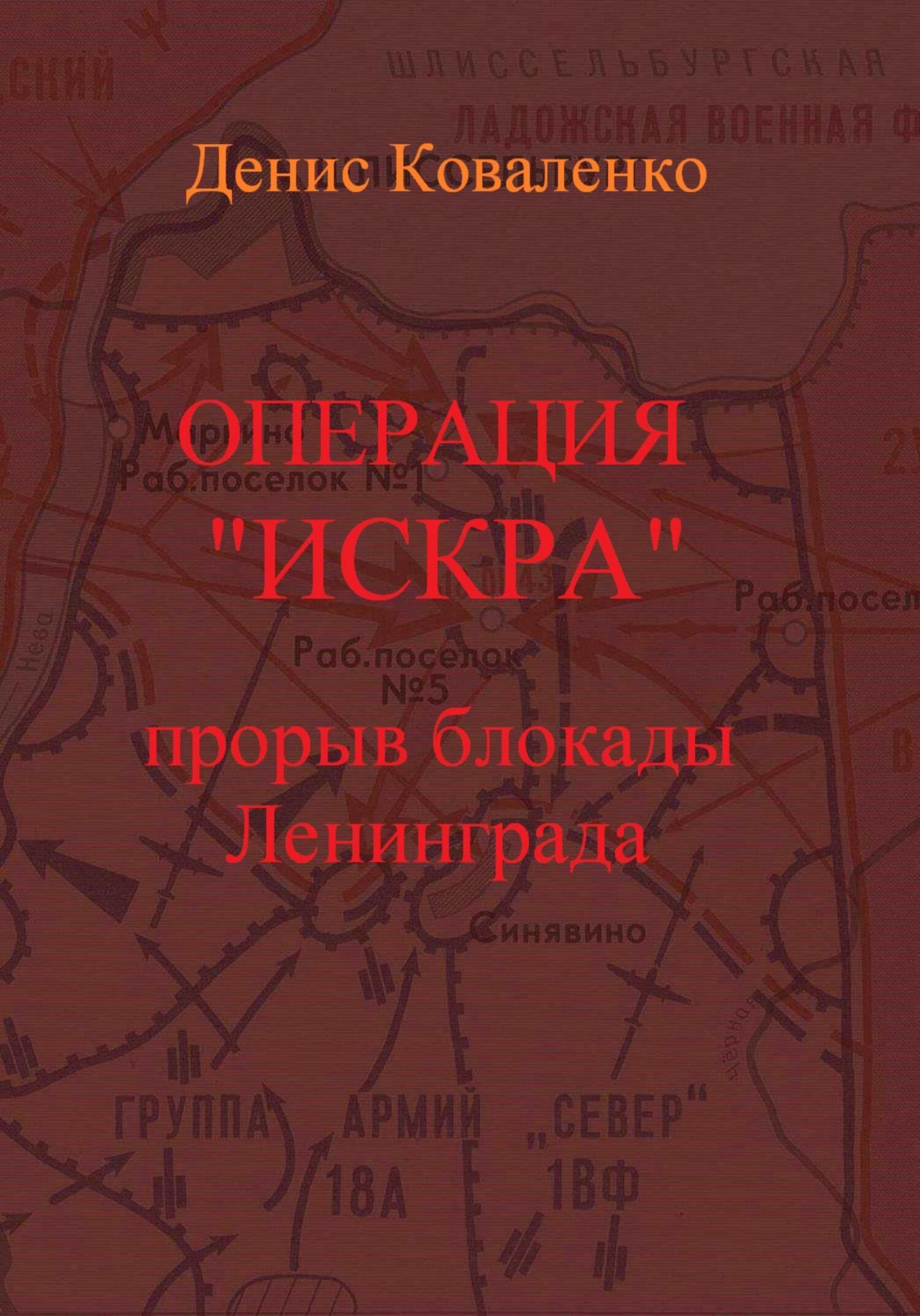своей повестью и зачитывала из него отдельные куски.
Вот ее рассказы.
Со станции Лычково мы уезжали с последним эшелоном. Перед этим разбомбили состав, в котором находились дети Дзержинского района Ленинграда, уцелело всего несколько десятков малышей… Бомбили часто, когда же в эшелон стали грузиться мы, немцы с самолета выбросили десант. Что тут началось, словами не передать! Крики, паника, беженцы устремляются к составу, бросают вещи, которые успели захватить из дома. А, видя, что в вагонах мест нет, молили об одном — увезите детей.
Рядом с нашим вагоном лежала убитая молодая женщина, около нее присела на корточки и кричала девочка лет трех. Когда поезд тронулся, Коля Таранов выпрыгнул, схватил девочку и подал нам.
Несколько дней пути девочка молчала. И только около Вологды сказала свое имя — Линна. Была она из Прибалтики и речь нашу не понимала. Видела только, что Коля ее оберегает. Заботится о ней, как старший брат. Всю дорогу она от него не отходила.
Когда в Кирове девочку от нас отделяли — ее направляли в дошкольный детдом, — Коля сказал: «Ее зовут Линна. А фамилия… Запишите ее на мою фамилию — Таранова. Война кончится, я ее разыщу…» Где та девочка с Колиной фамилией, жива ли? А Коли уже нет — в 1946 году он погиб от рук бандеровцев.
Пить хотелось постоянно, да и жарища в том военном июле стояла ужасная! Что еды не было — не так страшно: подкармливали солдаты из встречных эшелонов, делились пайками и домашними припасами. А вода!..
Тянулись из окон и тамбуров вагонов руки с эмалированными и алюминиевыми кружками.
— Пи-и-ить!
Помню: молодой солдат, чем-то похожий на моего брата, сокрушенно разводит руками, переворачивает свою флягу: дескать, ничего больше, ну ни капли!..
Но когда эшелон останавливался вблизи леса, вся ватага высыпала из вагонов в поисках любых водоемов. Радовались любой канаве, любому лесному болотцу, подернутому зеленой ряской.
Отчетливо помню себя стоящей на коленях в лесном болотце и раздвигающей ряску руками. Я долго-долго пила коричневато-красноватую воду, а потом так же долго вглядывалась в собственное отражение. На меня смотрела незнакомая девчонка: худое лицо, огромные глазницы, в которых утонули ставшие совсем маленькими глаза.
Если поезд останавливался где-нибудь у реки, то влезали в воду прямо в одежде, в обуви, пили и никак не могли напиться. Вот было настоящее блаженство!
Из реки вылезали лишь тогда, когда заполняли до отказа желудки, потом ведра, чайники, чашки.
За минуты блаженства пришла расплата: дизентерия не щадила ни детей, ни взрослых. А из лекарств почему-то была одна касторка. И воспитательницы, вряд ли что понимающие в медицине, заставляли нас глотать эту мерзость.
На очередной остановке высыпали все на насыпь, подставляя белые зады ветру и солнцу.
Правда войны смотрела на нас глазами измученных беженок и раненых из длинных составов с красными крестами на вагонах.
— Ребятки! Идите сюда! Спели бы что-нибудь, а?! — кричали раненые, высовываясь из окон.
И мы пели. Пели много, вразнобой, что называется, кто в лес, кто по дрова. Но с душой. «Три танкиста», «В далекий край товарищ улетает…», «Вышел в степь донецкую парень молодой…», «Дан приказ — ему на запад…», «Катюшу» и, конечно, «Священную войну». Пели, как умели. И растроганные бойцы наперебой угощали нас, чем могли. А мы не гнушались подбирать гостинцы даже с земли.
На одной из станций у нас вдруг обнаружилась серьезная конкурентка. Худенькая, тщедушная девчонка приятным голосом пела «Чайку»:
Ну-ка, чайка, отвечай-ка,
Друг ты мне иль нет?..
Ты возьми-ка отнеси-ка
Милому привет!..
Ребята с явным недоброжелательством смотрели на пришелицу, вторгшуюся в пределы территории нашего интерната. По никем не писанному закону того времени право поборов со «своих» бойцов строго лимитировалось: каждому вагону-интернату принадлежал лишь один вагон с бойцами, следовавшими на фронт, или вагон с ранеными. За пределы своих границ лучше не соваться — могут дать взбучку. Там действовали другие интернаты. И вдруг — на тебе!
Девчонка не захотела считаться ни с какими законами — пела себе и пела. И солдаты щедро ее одаривали.
Потом откуда-то появились две тетки с эмалированными ведрами, от которых исходили вкусные запахи. Одна из них алюминиевой миской зачерпнула из ведра гречневую кашу с мясом и отдала ее растерявшейся певице.
Этого я уже стерпеть не могла. Подскочила к наглой пришелице, выхватила из ее рук изогнутый в виде подковы круг колбасы и плитку шоколада и, ударив опешившую девчонку по голове жесткой колбасиной, опрометью кинулась в свой вагон.
— Ах ты, арестантка этакая! — визгливо закричала тетка. — Ворюга несчастная. Счас же отдай дитю заработанное!..
Я кое-как взгромоздилась на высокую ступеньку вагона и, чувствуя себя в безопасности, высунула язык и дурашливо заблеяла.
Когда ребята вернулись в вагон, в этот раз не солоно хлебавши, я успела уже расправиться с шоколадом и откусить изрядный кусок колбасы.
Тут Коля Таранов, ни слова не говоря, вырвал колбасу из моих рук и так же молча вышел. Ребята угрюмо молчали. Я высунулась из окна, чтобы разглядеть, куда он побежал.
А Коля догнал девчонку, которая, опустив голову, медленно брела между составами. Руки ее были заняты всякой снедью, а на плече висела связка баранок. И Коля сунул девчонке колбасу под мышку и что-то сказал.
Ребята, как сговорились, — никто со мной ни слова. Как только я к кому-нибудь обращалась, все молча отворачивались. Но почему? Разве я неправильно сделала? Я ведь только наказала пришелицу, забравшуюся на нашу территорию. Меня ведь тоже на днях выдворили из чужих владений: летела носом так, что и сейчас ссадила не зажила…
Гаденькое, мелкое чувство злорадства и непогрешимости одновременно вдруг захлестнуло меня, и я зло заорала:
— Что, завидно стало?! Съела шоколад, да? С вами не поделилась, да? Чего же вы-то ушами хлопали? У нее же много всего было!..
На меня посмотрели с откровенным презрением.
— Подождите, ребята! Ведь она ничего не знает! — сказала тут молоденькая воспитательница. — Понимаешь, мать у нее здесь в больнице лежит, и на Ирочкиных руках оказались трое малышей. Она их в детдом не отдает. Люди помогают, да вот пением зарабатывает. Маму ждут. Все вещи растеряли во время бомбежки, сами чудом спаслись.
Воспитательница говорила тихо, спотыкаясь и краснея.
А я стояла пунцовая от стыда. Слова отдавались гулкими ударами колокола в моей голове.
— Дрянь!
Я словно отчетливо услышала самое страшное слово, которое иногда, когда я уж очень, бывало, провинюсь, произносила мама.