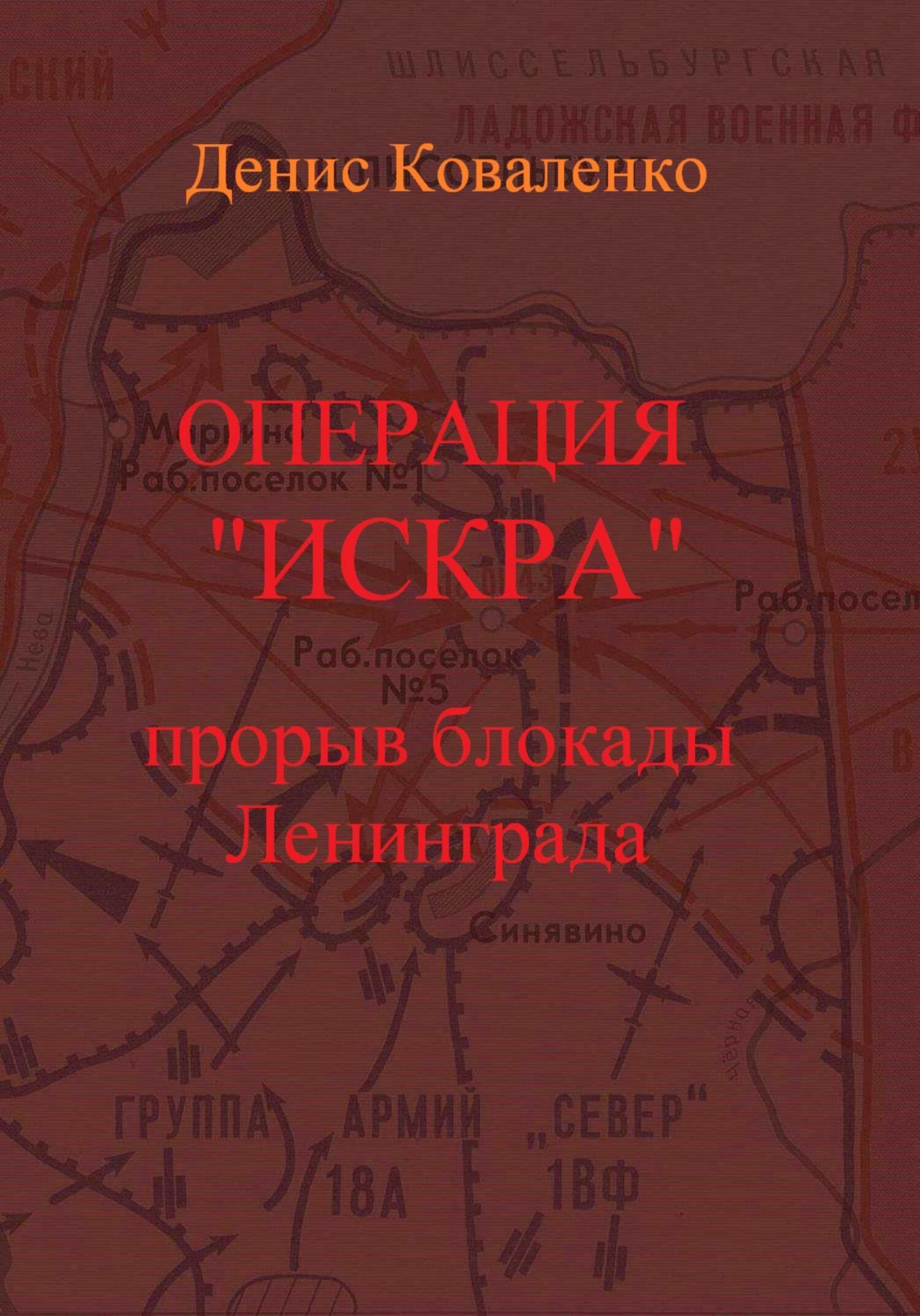них не волновалась, берегла себя. Потом последнее письмо в руки взяла, декабрьское, увидела сразу — почерк незнакомый. Стала его читать: пишет соседка, что у Лиды сначала умерла от голода старшая сестра, через день мама, а вскоре и бабушка. Словом, никого больше у нее из родных нет… Не дочитала Лида письмо до конца, выпало оно из дрожащих рук. Заплакала, закричала. Мы от своих писем оторвались, удивляемся: надо же, Лидка, которой столько от нас доставалось и которая все наши выходки сносила без слез, вдруг плачет. Кто-то попробовал даже ей что-то обидное сказать. Тут встал Борька Лугин, письмо поднял, прочел и сразу оскорблявшему по губам шлепнул. Потом громко, чтобы все слышали, заявил: «Если я еще раз услышу, что кто-то Лиду обижает, фашистским Гитлером обзывает, уши тому пакостнику выдерну и назад не поставлю…»
С того дня мы Лиду и не обижали. И хотя Борька такой: если что скажет — обязательно выполнит, — причина была не в нем.
«Люди добрыя. Помагите сиротки Нины…»
Нину привезли к нам уже по весне сорок второго… А войну она встретила в больнице. Вскоре они с сестрой погрузились в эшелон, следовавший в Челябинск. Но в пути, где-то недалеко от Волхова, их состав разбомбили.
Бескровное лицо Нины — последнее, наверное, что увидела старшая сестра-семиклассница Лена. Инстинктивно пригнула ее голову к себе на колени, накрыла хрупкое тельце своим.
Нину, совершенно обезумевшую, всю в сестриной крови, с трудом оттащили от мертвой Лены. Стой поры она стала заикаться.
Оставшиеся в живых после бомбежки разделились. Одни решили идти в сторону Волхова. Другие пошли назад, домой. Нина пошла с женщиной, которой мать поручила доглядывать за девочками. У тети Кати у самой было трое детей. На обратном пути их стало двое. Погибла трехлетняя щебетунья Тая. И тете Кате на насыпи ведром пришлось рыть сразу две могилы. Для Лены и Таи.
Когда через неделю Нина, грязная и оборванная, перешагнула порог родной коммуналки, сбежались все оставшиеся соседи.
Мама не плакала. Она словно окаменела. Даже их неугомонный кот Марсик, словно почувствовав горе хозяев, весь взъерошился и залез под кровать.
Как пережили в Ленинграде самое тяжелое время: декабрь, январь, февраль, Нина почти не помнила. Уже после войны соседский мальчик признался, что это они с матерью съели их веселого Марсика. Нина тогда плакала навзрыд и лупила обидчика по щекам. Тот даже не защищался.
А маму Нины, упавшую прямо в цехе, скоро поместили в стационар для дистрофиков. Из больницы она уже не вышла. Опеку над осиротевшей девочкой взяла соседка, тетя Аня: забрала с собой на хлебозавод. Там в теплой комнате Нина и прожила до середины марта, исполняя обязанности уборщицы.
Тетя Аня и эвакуационный лист девочке справила. Собрала воедино еще какие-то документы, вложила во внутренний карман цигейковой шубки Нины. А еще химическим карандашом на белом лоскуте от льняного полотенца написала сопроводиловку:
«Люди добрыя Помагите сиротки Нины Огородниковой 10 год. добраца до Кировской обл села Шестакова Ленинграцкий энтернат…»
Раньше она была черной, или, как о лошадях говорят, вороной, а сейчас, к старости, вся седая: и на хребтине, и на боках плешинки. Может когда-то и отличалась она резвостью, но это в прошлом, а тут ходила едва-едва, словно задумавшись, ноги тяжело переставляла. Но всегда была в работе, в действии.
Мы с ней встретились впервые, когда совершали переезд от Совья до Башарова, затем возили на ней навоз, золу из печки, а еще соломку. Когда в поле работали: снопы навяжем, нагрузим телегу, заберемся в нее, готовые в путь, директор наша пугалась: «Куда же вы поедете, дороги не зная?..» А ее местные бабы успокаивали: «Не тревожься, Петровна. Ребятишки не знают, так Тихоня-то умная…» И точно: управлять Тихоней не нужно, она сама до места довезет, где снопы сгружать предстоит. Тихо так шла, но с пути никогда не сбивалась…
Очень ее пауты донимали. Так мы с телеги спрыгивали, шли рядом, паутов веточками отгоняли. Хотелось нам чем-то ее угостить, но ведь ни хлеба, ни сахара нет, сами частенько голодные. Так мы ей соли даем: она аккуратно ее с ладони слизывает, а мы в это время ее гладим.
Первого мая 1942 года, известно, день праздничный. И настроение приподнятое, хоть и война… Пришли в столовую, а нам — виданное ли дело — котлеты подают. Обрадовались, конечно, сколько уже мяса не кушали, но все же у каждого вопрос: откуда? А повариха остановилась у раздачи и говорит: «Кушайте, дети, котлеты. Последнюю службу сослужила вам Тихонечка. Кушайте котлетки и помните ее…»
После этих слов у меня разом аппетит отшибло, отказалась наотрез. И котлетку мою Борька съел…
Вспомнилось. Брела я по узкой тропке меж огромными сугробами. На мне серое, на вырост, пальто и серая армейская ушанка. На ногах ботинки большого размера. И это хорошо — можно навертеть побольше тряпья. Не беда, что портянки торчат из ботинок. Тепло, и ладно! В руках бутылка парного молока. Купила у необъятной тетки с жирными пальцами, которыми она проворно выхватила у меня три красненькие тридцатки.
На ходу, захлебываясь, я пила из горлышка, лишь бы успеть опорожнить бутылку до дому. А потом, оправдываясь перед девчонками, я убедительно врала о каком-то происшествии, случившимся со мной и, естественно, со злополучной бутылкой. Врала с упоением, так, что и сама начинала верить. И девчонки верили.
Не верила Зойка-цыганка и ловила меня просто:
— Вытри сначала бороду, а потом и ври.
Я принималась тереть подбородок, хотя точно знала: никаких следов оставить не могла. Но Зойка! Утаить от нее что-нибудь было невозможно.
— Ну, попомнишь еще меня! — вещала она проникновенно.
И тайное становилось явным: несчастные пол-литра поднимали в моем животе такие боли, что я ничком валилась на топчан и дико выла, пока не прибегала «скорая помощь» — медсестра Катя, из местных, и не давала мне какого-то пахучего пойла.
После очередного моего исцеления Зойка тихо, чтобы слышала я одна, прошипела:
— Что? Больно? Так будет всегда, если будешь жрать втихаря.
Больше «жрать втихаря» я уже не решалась и честно делила все на всех. Молока приходилось каждому по глоточку. Может и к лучшему: один глоток не причинял особого вреда моему больному желудку.
Начальная наша школа находилась в другой деревне, в Обухове. Идти до нее два километра лесом. Это для взрослого человека два километра пустяк, а