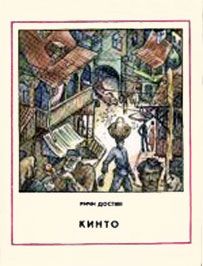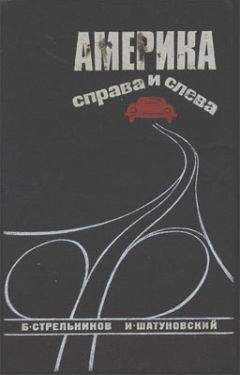1 декабря 1956 года:
«Читаю «Сережу» Пановой. Сейчас прочла главу «Женька» — очень хорошо на душе. Пока такое чувство от этой правды, будто поставлена яркая лампа на пол и освещает снизу жизнь взрослых людей».
Этот навеянный Пановой образ возникает заново в 1978 году в совершенно другом, но по духу родственном контексте на последних страницах моей повести «Кинто», где речь о старухе грузинке и трехцветном котенке, который, по преданию, приносит в дом счастье:
«Мудрая тем, что никогда не вмешивалась ни в чью жизнь, она отлично видела и радости все, и все печали, но про себя считала, что пророчество ее сбылось хотя бы потому, что этот комочек жизни, как лампа, поставленная па пол, осветил снизу лица.»
Плагиат у себя самой имеет объяснение: «Сережа» заставил потрудиться душу. Она и запомнила лучше, чем голова. Кроме того, заводя рибочие тетради, видимо, из отвращения к фальши, я дала себе зарок: никогда не заглядывать в день вчерашний, не перечитывать.[11] Это дало результаты поразительные. Получились не связанные между собою зеркальные отражении событий, лиц, настроений: получилась правда ― без ретуши и подтасовок!
27 июня 1957 года я была принята Верой Федоровной вечером. Принесла ей первую свою книгу «Два человека» и тут же получила «Сережу». Улучив момент, заглянула — оказалось, титульный лист вырван, и синими чернилами над текстом первой страницы еще вчера, судя по дате, написано: «Ричи Достян с пожеланиями и предсказанием самого лучшего в жизни. В. Панова. 26.VI.57».
Так, по толике, прибывало тепла и щедрости.
«Эта встреча прошла без напряжения — легко и просто. В. Ф. подарила мне «Сережу», но самое приятное — это та легкость, с какою она улавливает мои, даже туманные, планы. Недавно от раздражения, которое начала вызывать работа над затянувшейся волжской сюитой, пришла счастливая мысль: как только сдам рукопись в «Советский писатель», сразу же примусь за повесть о детстве. Варшава — Рогув — до выезда в Тифлис. В. Ф. сразу подхватила эту мысль, посоветовав:
— Только не пишите историко-биографической повести, не надо держаться документальности — это даст свободу и яркость. Второе — садясь за вещь, надо помнить, что дети все понимают — не нужно приспосабливаться к детской мнимой ограниченности. В тринадцать лет (она подчеркнула это паузой) я была совершенно уверена, что самая умная в доме я, что я больше всех знаю и лучше всех все понимаю!
И еще подсказала, что и мне самой представлялось единственно возможным в данном случае — не нужно рисовать события последовательно от автора. Лучше сочными, яркими эпизодами дать их через мир детей, по-своему толковавших политические события, картины повседневной жизни, нужду, забастовки, отношение фабричной ребятни к управляющему; надо непременно расспросить маму о людях, живших тогда с нами. Да, не забыть насчет книг, которые необходимо прочесть! Помню, как это было сказано:
— Мой вам добрый совет, прочитайте, если в свое время этого не сделали, Аксакова, и не только «Детство Багрова-внука», но и «Семейную хронику», и непременно «Давида Копперфильда» Диккенса и… Желиховскую очень советую! «Как я была маленькая» и «Отрочество» — да, да! И не смотрите на меня так — все это глупости, я даже Чарскую читала, и, как видите, ничего ужасного не произошло… Я вам больше скажу — если вы этих книг еще не читали — это даже к лучшему…
Я опустила голову, раздумывая: напомнить историю с Джеком Лондоном, или… вместо этого довольно твердо сказала:
— Непрочитанные книги мстят!
Вера Федоровна неожиданно рассмеялась:
— Да будет вам, я все отлично помню. Ну, повесьте себе это над книжной полкой.
Когда я уходила, она еще раз поблагодарила за книгу, потом левой рукой потрепала меня «на счастье» по плечам, говоря:
— Вот увидите, эта ваша повесть будет переведена на многие языки.
Пророчество ее сбылось.
Кончался 1959 год, по многим семейным и бытовым причинам очень для меня тяжелый. Работала урывками и, как это ни покажется странным, над двумя вещами сразу. Над книгой о детстве (занозой сидела оброненная Верой Федоровной фраза: «Обернитесь к тому, что лучше всего знаете»).
Вот я и обернулась. Начала с большим увлечением, но скоро остыла.
Вторая вещь была навеяна говорами, которые заполонили Ленинград: псковским и новгородским. А героиню подарил ломбард. Чудо-деваха стояла со мною в очереди: яркая, умная, энергичная крестьянка. Одна из тех, что берут города на абордаж!
Придя домой, я тут же завела папку, написала на ней: «Для чего я вышла замуж…» (условное название будущей повести). Деваха замуж выходила за Ленинград и такое говорила о своем женихе, что и про себя повторять не стоит…
Первое зернышко повести «Тревога», хотя в ней и не прорастет. Второе — фраза, услышанная на трамвайной остановке. Приведя меня в ярость, она-то и вылепила образ «Славкиной мамки».
Ад на душе, плюс безденежье, плюс тысяча забот — все это непостижимым образом, легко и быстро, очертило контуры книги. Еще ненаписанная, она уже была. Откуда только берутся силы, которых у тебя уже нет?
Мне нелегко этими подробностями о себе предварять рассказ об одной из самых поразительных встреч.
Не только доброй волей, проявленной щедро и своевременно, обязана я Вере Пановой. Ее доверие — на грани риска — обязало меня и окрылило!
Я пришла на Марсово поле в великолепном перенакаленном состоянии, когда нервы смывают все второстепенное, навсегда оставляя в памяти то, чему цены нет.
Не помню начала разговора. В обычном смысле его, собственно, и не было. Был мой фонтанирующий монолог. Вера Федоровна слушала с разжигающим собеседника вниманием. Дважды, как в топку, подбрасывала: «Отлично!»
В энергическом поле этого внимания я на ходу вносила поправки, переставляла акценты, отбрасывала лишнее ― я работала в кабинете Пановой, как за собственным письменным столом, только вслух.
Не помню, сколько времени это длилось, а вот пауза?! Есть что-то жуткое в долгом молчании твоего собеседника. Вдруг Вера Федоровна протянула руку и сняла телефонную трубку. Я опешила, впервые обратив внимание, что, на какой бы час ни назначалась встреча, телефонные звонки никогда не врывались в разговор.
Пока Вера Федоровна набирала номер, я успела даже найти объяснение своему открытию: это порядок! Порядок и дисциплина — изначальные черты ее облика! Сколько раз замечала: стоит ей войти, как люди закрывают рты и подтягиваются. Очень медленно Панова набирала нужный ей номер, а когда набрала, показалось, что она поет. Слова потекли мягко, протяжно, как это бывает в очень хорошем настроении: