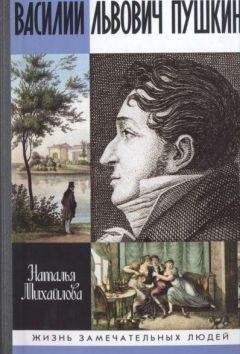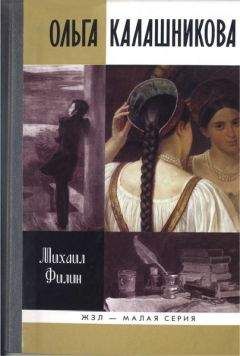Применялись, впрочем, и более затейливые методы. Так, эссе В. С. Непомнящего «Мамушка» (или «Мама») в своё время вызвало не только озабоченность в кругах предрасположенной ко всяческим фобиям интеллигенции, но и самиздатовский пасквиль на пушкиниста (автором и распространителем текста был довольно известный московский литератор).
Эффективной формой умаления заслуг Арины Родионовны, отнюдь не всегда и далеко не всеми осознаваемой, была и стимуляция обывательского спроса на Наталью Николаевну Пушкину — как на главную (или роковую) женщину в жизни поэта. Порождённые ажиотажным спросом сочинения о жене Пушкина — иногда искренние, чаще лукавые, почти всегда малопристойные — приходились по вкусу невзыскательной публике, а заодно они теснили «пресные» сюжеты о крепостной старушке на историографическую периферию.
Долго хранил молчание, но в конце концов всё-таки молвил своё веское слово об Арине Родионовне и Владимир Набоков, для которого в послевоенные («лолитные») годы сами понятия «национальный поэт» или «поэт народный» звучали как нонсенс. В юности Владимир Владимирович (тогда ещё тосковавший по России В. Сирин) писал сентиментальные стихи о ждущей Пушкина няне и её «верной душе»[58]. Став же литературным олимпийцем и транснациональным мэтром, Набоков (вернее, уже Nabokow или, в иной транскрипции, Nabokov) и трактовал «мамушку» (равно как и полемику вокруг Арины Родионовны) по-олимпийски: свысока и космополитично.
В англоязычном Комментарии к «Евгению Онегину», опубликованном в 1964 году в Нью-Йорке, В. В. Набоков признал, что Пушкин «и в самом деле душевно любил Арину и её сказки». Но тут же он добавил: «Русских комментаторов слишком опьяняет идея „простой русской женщины из народа“, которая рассказывает старые сказки (увы, почерпнутые из дешёвых итальянских брошюр) „нашему народному поэту“ (как будто истинный поэт может быть „народным“!)…» Так и не пояснив, какими путями старушка ознакомилась с «итальянскими брошюрами», В. В. Набоков снял проблему Арины Родионовны следующим образом:
«Народолюбцы-пушкинисты обожают её до слёз. Влияние её сказок на Пушкина усердно и нелепо раздувается. Вряд ли Пушкин когда-нибудь читал ей вслух ЕО („Евгения Онегина“. — М. Ф.), в чём уверены некоторые комментаторы и иллюстраторы. В 1820-е гг. она твёрдою рукою вела хозяйство, держала в страхе служанок и была очень не прочь приложиться к бутылочке. Пушкин, отзывавшийся на всякое модное литературное веяние своего времени, романтизировал её в стихах…»[59]
О том, что Арина Родионовна «пивала», автор «Лолиты» упомянул и в «Других берегах» (1954).
Вердикт авторитетного В. В. Набокова был повторен и заучен как эмигрантами, так и западными славистами. Полюбился он и некоторым российским исследователям, которые после краха советского режима наконец-то получили возможность свободно высказаться насчёт няни — и не мешкая сочинили вариации на тему: «Старушонка вздор!.. Не в ней и дело!».
Однако главным супостатом Арины Родионовны в «пост-набоковской» пушкинистике, как представляется, всё же стал представитель «третьей волны» эмиграции — профессор Калифорнийского университета, прозаик и специалист в жанре «литературного расследования» Ю. И. Дружников.
Из-под его пера вышло несколько сочинений о поэте, в частности, книга о «великом отказнике» — «Узник России. По следам неизвестного Пушкина», посвящённая чуть ли не всегдашнему пушкинскому «настойчивому желанию выбраться» из ненавистной империи. Логичным развитием профессорского «свежего, даже субъективного взгляда на биографию узаконенного символа национальной гордости» (В. Д. Свирский) была «демистификация» Арины Родионовны, осуществлённая Ю. И. Дружниковым в пространной работе под названием «Няня Пушкина в венчике из роз». Она была напечатана в нью-йоркском «Новом журнале» в 1996 году[60].
Кто-то из знатоков, открыв этот журнал, с первых же страниц уличит американского профессора в дилетантизме, подчас вопиющем; ещё кого-то могут покоробить блоковские реминисценции или фрейдистские экзерсисы; третьему вздумается указать на библиографическую неопрятность работы и т. п. Но знатоки, полагаем, должны и поблагодарить автора за подкупающую откровенность его очередного «расследования». Нам не приходилось сталкиваться со столь прямодушными декларациями, разящими чохом и Арину Родионовну («историко-литературное явление»), и тех, кто водрузил на старушечье чело, по терминологии Ю. И. Дружникова, розовый венчик.
Довольно часто профессор бичевал, как может показаться, «перегибы» русских и советских пушкинистов, их нелепые и невежественные подставки — однако за близкими (и порою верно избранными) мишенями явственно просматриваются его главные, стратегические цели: их Ю. И. Дружников не терял из виду.
Изучив «толстую папку накопленных материалов» и установив, что Пушкин «любил няню» (но только в годы михайловской ссылки: «в Петербурге она была ему не нужна»), Ю. И. Дружников затем пришёл к выводу, что Арина Родионовна «обрела вторую жизнь в воображении и текстах» поэта, то есть была им идеализирована: «Она осталась в его произведениях романтизированным счастливым персонажем без личной жизни и вне социального контекста, столь важного для русской литературы». Такая ирреальная «литературная модель» (во всех произведениях функционирующая как «второстепенная»), с одной стороны, была любезна Пушкину и вдохновляла его на новые творческие свершения, с другой же — приносила сугубую пользу, укрепляла репутацию поэта в светском обществе: ведь «человеческое отношение к простому люду» считалось «хорошим стилем того времени и пушкинского круга».
Но пушкинистика, как сообщено читателям далее, «полюбила няню ещё больше Пушкина». Волю эмоциям дали и дореволюционные жрецы науки о поэте, и, естественно, славянофилы, которым Арина Родионовна «помогала <…> приближать поэта к своему лагерю», и представители «советской пушкинской школы». Все они, обращаясь к «литературному мифу об идеальной няне», словно сговорившись, «высказывали мысли, созвучные официальной национальной идеологии».
Через пару страниц профессор вновь взял на мушку раздражающую его цель и заострил мысль: «После октябрьского переворота миф о няне был использован для политической коррекции образа Пушкина как народного поэта. <…> Рассуждения о народности творчества стали неотъемлемой частью науки о Пушкине. Пригодились и некоторые соображения славянофилов». Пришлись же они ко двору потому, что «пушкинистика становится родом агиографии, каковой она пребывает и сегодня. Темы „Пушкин и народ“, „Пушкин и Родина“, его патриотизм объявляются фундаментальными в литературоведении, а няня — основополагающим элементом построения таких моделей».