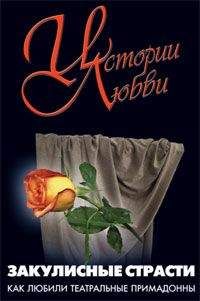Неизвестно, последовал бы за этим развод супругов или нет. Но очень скоро не стало самого царя. Он простудился, спасая тонущую шлюпку, и скончался 28 января 1725 года в возрасте пятидесяти трех лет.
В день его кончины враги усопшего самодержца ликовали. По рукам ходила лубочная картина – «как мыши кота хоронили», на которой маленькие смиренные мышки несут хоронить огромного дохлого кота, который ужасно напоминает рослого усатого императора...
Алексей Толстой
Петр Первый (отрывок)
«...Молчаливый и прозябший, он вернулся в ярко освещенный дом Лефорта. Играла музыка на хорах танцзала. Пестрые платья, лица, свечи – удваивались в зеркалах. Сквозь теплую дымку Петр сейчас же увидел рыжеволосую Анну Монс... Девушка сидела у стены, – задумчивое лицо, опущены голые плечи.
В эту минуту музыка, – медленный танец, – протянула с хор медные трубы и пела ему об Анхен, об ее розовом пышном платье, о невинных руках, лежавших на коленях... Почему, почему неистовой печалью разрывалось его сердце? Будто сам он по шею закопан в землю и сквозь вьюгу зовет из невозможной дали любовь свою...
Глаза Анны дрогнули, увидели его в дверях раньше всех. Поднялась и полетела по вощеному полу... И музыка уже весело пела о доброй Германии, где перед чистыми, чистыми окошечками цветет розовый миндаль, добрые папаша и мамаша с добренькими улыбками глядят на Ганса и Гретель, стоящих под сим миндалем, что означает – любовь навек, а когда их солнце склонится за ночную синеву, – с покойным вздохом оба отойдут в могилу... Ах, невозможная даль!..
Петр обхватил теплую под розовым шелком Анхен и танцевал молча и так долго, что музыканты понесли не в лад...
Он сказал:
– Анна?
Она доверчиво, ясно и чисто взглянула в глаза.
– Вы огорчены сегодня, Петер?
– Аннушка, ты меня любишь?
На это Анна только быстро опустила голову, на шее ее была повязана бархатка... Все танцующие и сидящие дамы поняли и то, что царь спросил, и то, что Анна Монс ответила. Обойдя круг по залу, Петр сказал:
– Мне с тобой счастье...»
«Вечером мамки и няньки, повитухи и дворцовые дурки суетливо заскрипели дверями и половицами: „Царь приехал...“ Воробьиха кинула в свечу крупицу ладона – освежить воздух, – и сама юркнула куда-то... Петр вбежал наверх через три ступени. Пахло от него морозом и вином, когда наклонился он над жениной постелью.
– Здравствуй, Дуня... Неужто еще не опросталась? А я думал...
Усмехнулся, – далекий, веселый, круглые глаза – чужие... У Евдокии похолодело в груди. Сказала внятно:
– Рада бы вам угодить... Вижу – всем ждать надоело... Виновата...
Он сморщился, силясь понять – что с ней. Сел, схватясь за скамейку, шпорой царапал коврик...
– У Ромодановского обедал... Ну, сказали, будто бы вот-вот... Думал – началось...
– Умру от родов – узнаете... Люди скажут...
– От этого не помирают... Брось...
Тогда она со всей силой отбросила одеяла и простыни, выставила живот.
– Вот он, видишь... Мучиться, кричать – мне, не тебе... Не помирают! После всех об этом узнаешь... Смейся, веселись, вино пей... Езди, езди в проклятую слободу... (Он раскрыл рот, уставился.) Перед людьми стыдно, – все уж знают...
– Что все знают?
Он подобрал ноги, – злой, похожий на кота. Ах, теперь ей было все равно... Крикнула:
– Про еретичку твою, немку! Про кабацкую девку! Чем она тебя опоила?
Тогда он побагровел до пота. Отшвырнул скамью. Так стал страшен, что Евдокия невольно подняла руку к лицу. Стоял, антихристовыми глазами уставившись на жену...»
«Этой осенью в Немецкой слободе, рядом с лютеранской киркой, выстроили кирпичный дом по голландскому образцу, в восемь окон на улицу. Строил приказ Большого дворца, торопливо – в два месяца. В дом переехала Анна Ивановна Монс с матерью и младшим братом Виллимом.
Сюда, не скрываясь, ездил царь и часто оставался ночевать. На Кукуе (да и в Москве) так этот дом и называли – царицын дворец. Анна Ивановна завела важный обычай: мажордома и слуг в ливреях, на конюшне – два шестерика дорогих польских коней, кареты на все случаи.
К Монсам, как прежде бывало, не завернешь на огонек аустерии – выпить кружку пива. «Хе-хе, – вспоминали немцы, – давно ли синеглазая Анхен в чистеньком передничке разносила по столам кружки, краснела, как шиповник, когда кто-нибудь из добряков, похлопав ее по девичьему задку, говорил: „Ну-ка, рыбка, схлебни пену, тебе цветочки, мне пиво...“
Теперь у Монсов бывали из кукуйских слобожан лишь почтенные люди торговых и мануфактурных дел, и то по приглашению, – в праздники, к обеду. Шутили, конечно, но пристойно. Всегда по правую руку Анхен сидел пастор Штрумпф. Он любил рассказывать что-нибудь забавное или поучительное из римской истории. Полнокровные гости задумчиво кивали кружками с пивом, приятно вздыхали о бренности. Анна Ивановна в особенности добивалась приличия в доме.
За эти годы она налилась красотой: в походке – важность, во взгляде – покой, благонравие и печаль. Что там ни говори, как ни кланяйся низко вслед ее стеклянной карете, – царь приезжал к ней спать, только. Ну, а дальше что? Из Поместного приказа жалованы были Анне Ивановне деревеньки. На балы могла она убирать себя драгоценностями не хуже других и на грудь вешала портрет Петра Алексеевича, величиной в малое блюдце, в алмазах. Нужды, отказа ни в чем не было. А дальше дело задерживалось.
Время шло. Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от южного моря к северному. Анна Ивановна слала ему письмеца, и – при каждом случае – цитронов, апельсинов по полдюжине (доставленных из Риги), колбасы с кардамоном, настоечки на травах. Но разве письмецами да посылками долго удержишь любовника? Ну как привяжется к нему баба какая-нибудь, въестся в сердце? Ночь без сна ворочалась на перине. Все непрочно, смутно, двоесмысленно. Враги, враги кругом – только и ждут, когда Монсиха споткнется.
Даже самый близкий друг – Лефорт, – едва Анна Ивановна околицами заводила разговор – долго ли Питеру жить в неряшестве, по-холостецки, – усмехался неопределенно, – нежно щипал Анхен за щечку: «Обещанного три года ждут...» Ах, никто не понимал: даже не царского трона, не власти хотела бы Анна Ивановна, – власть беспокойна, ненадежна... Нет, только прочности, опрятности, приличия...
Оставалось одно средство – приворот, ворожба. По совету матери, Анна Ивановна однажды, вставши с постели от спящего крепко Петра, зашила ему в край камзола тряпочку маленькую со своей кровью... Он уехал в Воронеж, камзол оставил в Преображенском, с тех пор ни разу не надевал. Старая Монсиха приваживала в задние комнаты баб-ворожей. Но открыться им – на кого ворожить – боялись и мать и дочь. За колдовство князь-кесарь Ромодановский вздергивал на дыбу. Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну простой человек (с достатком), – ах, променяла бы все на безмятежную жизнь. Чистенький домик, – пусть без мажордома, – солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках, пахнет из кухни жареным кофе, навевая упокоение, звякает колокол на кирке, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна за рукодельем...