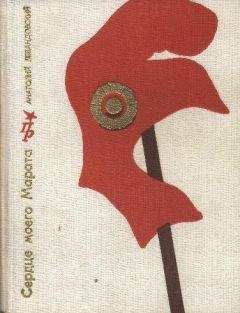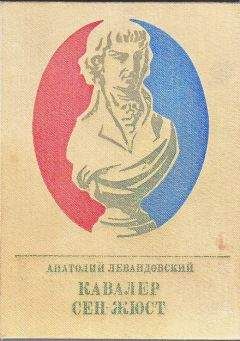Он продолжал округлившимися глазами разглядывать меня. Затем крикнул:
— Эй, ребята!..
Подошли несколько человек.
— Хватай его и веди в кордегардию… Это шпион!..
Прежде чем я успел опомниться, несколько пар сильных рук подхватили меня и поволокли. Я не сопротивлялся. В голове моей вертелись обрывки каких-то мыслей. Я вдруг вспомнил, что когда в дилижансе, обратившись к соседу, сказал ему «сударь», он также выпучил глаза…
…Человек, сидевший за столом, поднял бледное лицо.
— Вот, — кипятился бородач, — арестуйте его и поскорее допросите! Это австрийский шпион! Он сказал мне «вы» и обозвал «господином»! А после этого стал расспрашивать о Национальном Конвенте…
Человек за столом тихо произнес:
— Документы!.. Я не сразу понял.
— Документы! — повторил он, не меняя тона.
Я вытащил из кармана удостоверение личности и свидетельство об увольнении.
Бледный долго изучал обе бумаги, вертя их во все стороны и даже смотря на просвет. Потом снова взглянул на меня:
— Почему не исполняешь постановления?
— Какого?
— Разве тебе неизвестно, что указ Коммуны запрещает употреблять слово «господин», придуманное аристократами?
— Но когда же он был принят?
Бледный смотрел на меня с любопытством.
— Да ты что, с луны свалился? Когда принят? Незадолго до казни тирана! Именно с тех пор граждане перестали называть друг друга на «вы», чтобы не возвращаться ко временам деспотизма…
Я объяснил чиновнику, что как раз в то время, тяжело раненный, находясь при смерти, я, возможно, пропустил этот указ… Кроме того, в армии, среди маршей, битв и ухода за ранеными, не до указов…
Последних слов, очевидно, произносить не следовало.
Бледный насупился.
— Ты говоришь не дело, — вдруг отрезал он, — распоряжения властей следует знать в любой обстановке… Ну да ладно, иди и впредь старайся быть более осторожным.
Он повернулся к стоявшим рядом санкюлотам:
— Спасибо, граждане, вы сознательные патриоты. Но этот ни при чем. Он возвращается из армии после ранения.
Затем, наклонившись к столу, он пробурчал про себя, но я расслышал:
— Проклятие, третий за сегодняшний день…
Я вышел, сопровождаемый моими незадачливыми стражами. Должен заметить: как только они узнали, что я не австрийский шпион, их словно подменили. Они бурно поздравляли меня, пожимали мне руки, обстоятельно ответили на все мои вопросы и даже пригласили выпить с ними стаканчик вина. Я поблагодарил и, сославшись на занятость, покинул их.
* * *
Поскольку дорожный сак, хотя и не слишком тяжелый, стал натирать мне руку, я решил несколько изменить маршрут и прежде всего забежать на мою старую квартиру.
Улица Ансьен-комеди была все той же и даже не изменила названия. Прежде чем подняться к себе, я постучал к Мейе, хотя и не очень надеялся застать его.
Действительно, дверь открыл какой-то молодец с припухшим лицом, который заявил, что ничего не знает о моем друге. Ничего не знала о нем и моя квартирная хозяйка, мадам (виноват! гражданка) Розье. Я постарался вежливо прервать ее причитания и расспросы, узнал, что она сдала мою каморку другому лицу, оставил у нее свои пожитки и снова очутился на улице.
Направляясь к дому Луизы, я вдруг вернулся мыслью к словам бледного чиновника. «Незадолго до казни тирана»… Ну конечно же! Ведь 21 января по приговору Конвента был гильотинирован Людовик XVI — вот почему уничтожили статуи всех королей и переименовали места, связанные с воспоминаниями о королевской власти! В памяти моей возник толстый человек с апатичным лицом, которого я так близко видел в Версале, а затем два раза здесь, в Париже… Сколько же времени прошло с тех пор!.. Учитель прав — сейчас дни стоили веков…
* * *
У Луизы я, разумеется, задержался много дольше, чем думал. Потом она отправилась меня провожать, потом я провожал ее, и так до тех пор, пока не стало смеркаться. Теперь в Конвент идти не было смысла. Как же мне, однако, найти учителя? Я помнил, что сестры Эврар жили где-то на улице Сент-Оноре, но номер дома, естественно, забыл. Пойти к якобинцам? Но Марат там бывал не так уж часто. К Кордельерам? Но его могло и там не оказаться. И тут мне вдруг пришел в голову удивительно простой выход. Я подозвал извозчика и, сев в экипаж, сказал безапелляционным тоном:
— К Другу народа, на дом!..
Кучер даже не обернулся в мою сторону и стегнул лошадь. Значит, я рассудил правильно: местожительство Друга народа знал весь Париж! Весь Париж, за исключением одного человека — самого горячего почитателя и друга…
Мы ехали очень недолго и остановились на улице Кордельеров, возле дома под номером 30. Возница четко объяснил мне, как найти квартиру Марата, и на прощанье заметил:
— Видишь, вон там, на углу улицы Паон, старинное здание с башней? Так вот, многие простаки считают, что это и есть дом Друга народа. Оно и понятно — ведь это самый красивый дом на улице Кордельеров! Но патриоты знают, что Друг народа не гонится за красотой и богатством и поэтому живет именно здесь в самом обычном доме, в самой обычной квартире, — ты в этом убедишься сам.
Я расплатился со словоохотливым почитателем Друга народа и нырнул под арку ворот, расположенных между двумя лавчонками. Пройдя маленький дворик, в одном из углов которого был вырыт круглый колодезь, я свернул направо и очутился в широком проеме. Наверх вела каменная лестница с коваными железными перилами. Поднимаясь и описывая полукруг, она привела меня на площадку с двумя окнами во двор. Здесь была дверь в квартиру Марата, а рядом — небольшое окно, через которое свет с площадки проникал на кухню. Вместо шнура для звонка висел железный прут, согнутый на конце.
Я позвонил.
* * *
Остановимся на несколько минут, мой читатель.
Эта квартира была последним пристанищем Марата. Сюда он пришел из подземелья, здесь познал счастье разделенной любви, здесь жил во время своего триумфа, здесь нашла его смерть.
Я часто бывал в этой квартире, а иногда даже по нескольку дней жил в ней. Мне были знакомы и близки не только ее обитатели, но и все ее убранство, каждый предмет обстановки. Между тем о квартире Марата ходили всякие толки, и мемуаристы имели дерзость расписывать ее, никогда не видев.
Все может быть. Дома, как люди, не вечны. Пройдет время, и дом номер 30 по улице Кордельеров исчезнет [13]. И никто из интересующихся жизнью Друга народа, никто из грядущих биографов его уже не сможет описать его жилище. А потому это сделаю я, и да будет прощено мне новое отступление, которое, в сущности, отступлением не является.