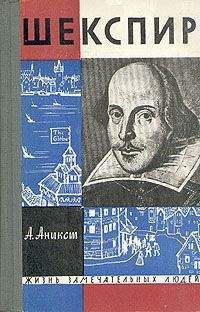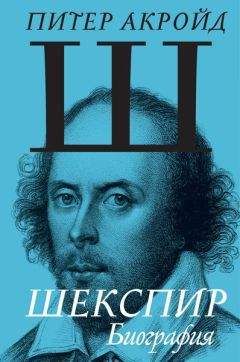Встреча, наверное, началась с печальной новости, которую мог привезти из Лондона Бен Джонсон: 6 марта этого года скончался Франсис Бомонт. Он умер тридцати семи лет.
Что думали при этом Шекспир и Дрейтон, которым было за пятьдесят, нетрудно догадаться. Джонсон мог вспомнить, что совеем недавно Бомонт прислал ему дружеское послание, в котором описывал их встречи в «Сирене». Он мог при этом добавить, что в послании довольно лестно говорится о Шекспире. Но едва ли он процитировал строки Бомонта:
Пусть неученой будет моя лира,
Как лучшие творения Шекспира.
Шекспир, конечно, спрашивал о последних театральных новостях, и Джонсон мог кое-что рассказать об этом, не преминув похвалиться своими успехами.
Об этой встрече трех писателей сохранилось предание, которое записал стратфордский викарий Джон Уорд в своем дневнике. Он был викарием уже добрых полвека спустя после смерти Шекспира и записал это предание со слов кого-нибудь из горожан: «Шекспир, Дрейтон и Бен Джонсон устроили веселую пирушку и, кажется, выпили слишком крепко, ибо Шекспир умер от лихорадки, которая у него после этого началась…» Этот рассказ очень смущал биографов Шекспира в XIX веке, особенно английских исследователей, живших в викторианский период. Им казалось унизительным как для национального достоинства, так и для самого великого поэта то, что он скончался в результате веселой попойки со старыми друзьями. Надо сказать, что другие записи Уорда, касающиеся Шекспира, не отличаются большой точностью. Это давало право отвергать и рассказ о встрече с Джонсоном и Дрейтоном. Если, однако, отказаться от ханжеских представлений о Шекспире, то ничего невероятного в рассказе Уорда нет. Что касается Бена Джонсона, то о нем наверняка известно, что он был мастер выпить. Дрейтон тоже не отличался абсолютной трезвенностью. Думается, нет ничего оскорбительного для памяти писателя, создавшего образ Фальстафа, если мы предположим, что и он не был противником вина, особенно если встречался за столом с близкими друзьями, которых ему не часто доводилось видеть последние годы. Конечно, медицинские показания Уорда о «лихорадке», вызванной перепоем, возбуждают сомнения в достоверности всего рассказа. Но если мы примем предположение о болезненном состоянии Шекспира в последние годы, то нас не удивит, что даже и малая доза вина могла вызвать резкое ухудшение.
Последний раз из Монтеня: «Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми, — это вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой!.. Они страшатся назвать смерть по имени… И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите, чтобы они подумали о составлении его, прежде чем врач произнесет над ними свой последний приговор…
Что до меня, то я, благодарение богу, могу в данное время убраться отсюда, когда ему будет угодно, не печалясь ни о чем, кроме самой жизни, если уход из нее будет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который был бы так всесторонне и тщательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне».[133]
Мог ли сказать о себе то же самое Шекспир? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить, как уходят из жизни герои его трагедий. Они умирают без сентиментальных ламентаций, без плаксивых причитаний и молитв.
«Я римлянин», — говорит Горацио, желая разделить смерть со своим другом Гамлетом. И вот как умирает римлянин Брут:
Перед глазами ночь. Покоя жажду,
Я заслужил его своим трудом.[134]
Римлянин Антоний:
Сними с меня доспехи. Вот и кончен
Мой труд дневной, и я могу уснуть.[135]
С какого-то момента Шекспир знал, что наступил его срок. Надо было подумать о завещании, и Шекспир заблаговременно вызвал нотариуса, чтобы тот согласно всем правилам составил документ, выражающий его, Шекспира, последнюю волю.
Шекспир накопил много добра, и надо было оставить распоряжения об имуществе.
Главной наследницей он назначил старшую дочь, которой завещал свой большой дом «Новое Место», дом на Хенли-стрит, перешедший к нему от родителей, и все земельные участки, а также значительную сумму денег — все, что осталось после распределения денежных средств между другими наследниками.
Почему Шекспир сделал наследницей Сьюзен, а не жену? Этот вопрос возник давно. Было высказано мнение, будто Шекспир плохо относился к Энн Хетеуэй и в знак презрения завещал ей всего лишь «вторую по качеству кровать». Эту версию повторяло бесконечное число биографий Шекспира. Их убедительно опроверг крупнейший знаток фактов жизни писателя Дж. О. Холиуэл-Филиппс. По закону жена Шекспира имела право на треть их имущества. Если Шекспир не оставил ей ничего, то по той причине, что она была уже не в состоянии управлять столь большим хозяйством. Энн была на восемь лет старше Шекспира, и в 1616 году ей исполнилось шестьдесят. Холиуэл-Филиппс предполагает также, что Энн Шекспир могла быть больна. Можно не сомневаться, что Шекспир оставлял жену попечениям старшей дочери и ее мужа-врача. За это Сьюзен и получала львиную долю наследства.
Что касается пресловутой «второй по качеству кровати», то дело объясняется просто. «Первая по качеству кровать» обычно находилась в парадной опочивальне, предназначавшейся для почетных гостей. Вторая же кровать была, по-видимому, супружеским ложем или ложем для больной Энн. То, что Шекспир специально оговорил предоставление ей этой кровати, было в таком случае не знаком пренебрежения, а признаком особого внимания. Отметим, между прочим, что такое решение «загадки» возникло по аналогии с завещанием дяди драматурга Томаса Хейвуда. Его жена была тяжело больна, поэтому управление всем имуществом он передал в руки дочери, обязав делать все необходимое для обеспечения матери.
Остальное имущество Шекспир распределил так: младшей дочери Джудит 300 фунтов стерлингов и большую серебряную чашу; сестре Джоан, жене шляпочника Харта, — в пожизненное пользование дом на Хенли-стрит и 20 фунтов стерлингов наличными; ее трем сыновьям, племянникам Шекспира, — 5 фунтов стерлингов каждому; внучке Элизабет Холл, дочери Сьюзен, — всю посуду; крестнику Уильяму Уокеру — 20 шиллингов золотом (то есть 1 фунт стерлингов); для раздачи бедным — 10 фунтов стерлингов; Томасу Комбу Шекспир оставил свою шпагу, давним друзьям Гамнету Садлеру, Уильяму Рейнольдсу, Антони и Джону Нэш — по 26 шиллингов 8 пенсов — на покупку поминальных колец; душеприказчикам Томасу Расселу и Фрэнсису Коллинзу, которым поручалось наблюдение за выполнением завещания, — первому — 5 фунтов стерлингов, второму — 13 фунтов стерлингов 6 шиллингов и 8 пенсов.