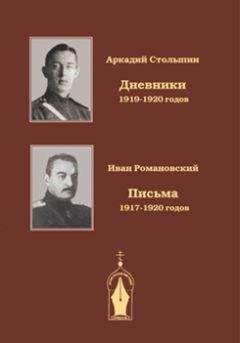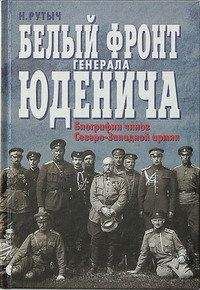И опять зримость образа становилась яркой до рези в глазах. Образы не связанных друг с другом стихотворений накладывались один на другой, не уничтожаясь взаимно и создавая неповторимую гармонию. Я верил Пастернаку «на слово», не мог не поверить его абсолютной искренности.
Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару…
А это откуда? Ведь этого стихотворения я не слышал?
…Уцелела плита
За оградой грузинского храма…
В тот вечер Пастернак читал стихи из «Сестры моей — жизни» и первым, вероятно, прочел «Памяти Демона», стихотворение, которым начинался сборник. Еще полный звуками голоса Маяковского, я не уловил его, но оно вынырнуло из подсознания уже после того, как я услышал: «Так пел бы вихрь…» Память сделала обратный ход и восстановила пропущенное мною.
По мере того, как я слушал Пастернака, все становилось стихами. Как Орфей, он превращал в поэзию окружающий мир: сутулая спина Эренбурга; красные, возбужденные глаза Шкловского; новый смокинг Дули Кубрика; фигура официанта в заношенной белой тужурке; мраморные столики кафе; я сам, ставший частью этого мира, — все преображалось, все начинало жить до сих пор скрытой от глаз жизнью.
Может статься — так, может иначе,
Но в несчастный некий час
Духовенств душней, черней иночеств
Постигает безумье нас.
Глуховатый голос зажигал произносимые слова, и строка вспыхивала, как цепочка уличных фонарей. Лицо Пастернака было сосредоточенно, замкнуто в самом себе. Я подумал, что таким было лицо Бетховена, сквозь глухоту вслушивающегося в свою музыку. Иногда мне казалось, что я могу осязать звук слов. Все это не поддавалось логическому, рациональному объяснению, но я этого объяснения и не искал, да и не хотел искать. Пастернак ввел меня в четвертое измерение, преобразил мир, я вдруг увидел собственное сердце, пульсировавшее в такт его стихам.
Я вышел из кафе совершенно пьяный от нахлынувших на меня впечатлений. Поднялся на эстакаду, вошел в тускло освещенную станцию метро. Вошел в вагой для того, чтобы выйти на ближайшей станции — Глайздрейэке. Я попал в мир железнодорожных мостов, перешагивавших пустынную улицу. Над головой проносились поезда — грохот начинался издалека, нарастал, обрушивался лязгом и чудовищно ритмичным стуком колес. Этот грохот был похож на стихи Маяковского своей неудержимостью. Я «мял взмахами шагов» мокрый от дождя тротуар, бежал от грохота поездов, но один состав сменялся другим, и после короткой паузы, когда становились слышными звонкие капли, срывавшиеся с черного моста и разбивавшие тонкое стекло луж, снова вдалеке возникал грохот надвигающейся лавины.
Наконец я выбрался из-под воздушного лабиринта мостов и попал на задворки Потсдамского вокзала. Появились тени прохожих, изломанные желтым светом фонарей. Глухие стены складов сменялись слепыми стенами заснувших домов. Уже совсем далеко громыхали тяжелые составы поездов.
Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях…
Я зачерпнул в луже воды и между крепко стиснутых ладоней увидел отражение — не звезды, конечно, но покачивающегося от ветра, висевшего над головой фонаря. Вот он, мгновенный блеск, тающий в руках, превращающийся в смарагдовые капли, падающие к моим ногам, — вот это и есть поэзия!
В один и тот же вечер я услышал — в первый раз! — Маяковского и Пастернака; Маяковский потряс, возвысил и уничтожил меня: уничтожил нечто казавшееся незыблемым; в стихи Пастернака я влюбился без памяти. Безнадежно объяснять, почему приходит любовь, — эту тайну никак не объяснишь тому, кто видит мир не моими, а своими глазами.
Через несколько дней я случайно зашел к Б. К. Зайцеву. В 1903 или в 1904 году отец ввел Бориса Константиновича в знаменитую «Среду». С тех пор началась дружба, ограниченная, однако, московским периодом жизни отца. После того, как Леонид Андреев «изменил» знаньевцам, начал писать символические драмы, покинул Москву и поселился на Черной речке, встречи прекратились. Отец вспоминал о Борисе Константиновиче всегда с большой лаской и любовью, но по своему обыкновению слегка насмешливо.
За чайным столом сидели гости, — в Берлине еще было принято заходить на огонек, без предупреждения, в любое время дня (даже когда «огонька» не предполагалось), в крепкой уверенности, что гость никогда не помешает хозяину, и чайник — за неимением самовара — не остывал с полудня и до последнего метро. Обыкновенно после звонка у парадной двери из передней начинал доноситься чмок, и было неизвестно — то ли снимали мокрые галоши, то ли целовались. В Берлине галош не носили, но продолжительность чмоков в зайцевской передней от этого не уменьшалась. Чайным столом управляла Вера Алексеевна, жена Бориса Константиновича, и сразу же вводила гостя в суть беседы, попутно отпустив неприличность, от которой краснели хозяин и гость. Поперхнувшись коротким смешком, хозяин говорил:
— Ну что ты, Вера, ну что ты?..
Однако гость, несмотря на смущение, сразу начинал верить, что только его именно и ждали и что московское гостеприимство, когда чужой человек сразу начинает чувствовать себя другом дома, остается неизменным и вечным.
Осмотревшись, я увидел, что, уже отпив чай, на плюшевом диване сидит Пастернак. Борис Константинович познакомил нас.
Смущенный до крайности, я закапал вареньем пеструю, к счастью, скатерть — «О, куда мне бежать от шагов моего божества!» — и не мог отвести влюбленных глаз
Бориса Леонидовича. Пастернак рассказывал об Асееве:
— Он писал обыкновенные стихи, но вот уехал на целую зиму в деревню, обвытую волками, долгие месяцы прожил в одиночество и теперь пишет хорошо, очень хорошо. Даже не пишет: он свои стихи вырезает, как резчик по дереву.
Зайцев дружески относился к Пастернаку: Борис Леонидович был москвичом, сыном известного художника, которого знала и ценила Москва. К футуристам относился он, конечно, резко отрицательно.
Вы говорите — как резчик по дереву, — Зайцев хохотнул, — только вот беда — нельзя ничего понять. Вот Маяковский хоть остроумен: «Нигде кроме, как в Моссельпроме»… И ваших стихов не понимаю…
Из всего, что говорил Пастернак своим глуховатым, идущим прямо из горла, низким голосом, мне больше всего запомнилось «в деревне, обвытой волками». Я подумал, что нельзя точнее и полней одним прилагательным дать картину заброшенной деревни, с избами, утонувшими в снежных сугробах, с жуткой музыкой волчьего воя и пурги, музыки, из которой возникают вырезанные из твердого дерева крепкие стихи.