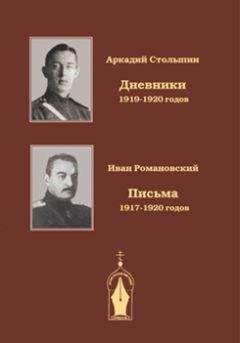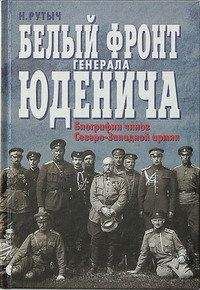Из всего, что говорил Пастернак своим глуховатым, идущим прямо из горла, низким голосом, мне больше всего запомнилось «в деревне, обвытой волками». Я подумал, что нельзя точнее и полней одним прилагательным дать картину заброшенной деревни, с избами, утонувшими в снежных сугробах, с жуткой музыкой волчьего воя и пурги, музыки, из которой возникают вырезанные из твердого дерева крепкие стихи.
Вскоре Пастернак поднялся — уходить. Я не выдержал и, махнув рукой па приличия, оставив на столе недопитый стакан чаю и недоеденное варенье, незаметно прокрался в переднюю и вышел вслед за Борисом Леонидовичем на улицу. Я чувствовал, что я должен ему рассказать о том, какое на меня произвели впечатление стихи, им прочитанные в «Доме искусств», и не знал, как это сделать.
В метро нас притиснули друг к другу. Красный галстук лежал у меня на груди. В любви всегда очень трудно признаться в первый раз. Мне казалось грубым и не соответствующим силе чувств сказать: «Я полюбил ваши стихи». Путаясь, я начал говорить о том, что полюбил их невнятность, и даже процитировал:
Грех думать — ты но из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула…
— Неужели же и эти стихи непонятны?
— Нет, что вы, Борис Леонидович, но вот:
Им, им — и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез — до слез!
Пастернак заговорил о том, что здесь, в Берлине, у него появилось чувство, что ему все надо начинать сызнова, что на днях (выйдут в издательстве «Геликон» «Сестра моя — жизнь» и «Темы и вариации». Когда я переспросил название второй книги, Борис Леонидович повторил его а оказал, что (книга построилась (именно «построилась», а не «я построил») как некое музыкальное произведение где основные мелодии разветвляются и, не теряя связи с основной темой, вступают в самостоятельную жизнь. Потом, как будто это объяснение показалось ему лишним, добавил, что это для него пройденный путь.
Маяковский, — неожиданно оказал он, — считает, что мои стихи слишком похожи на стихи.
— Я не хотел бы писать, как Маяковский… То есть, — продолжал я, испугавшись, что могу быть понятым неправильно, — его стихи слишком не стихи, они уходят в сторону от того, что я люблю.
— И я не хотел бы, но я хочу, чтобы мои стихи были понятны зырянам.
Я растерялся, но все же попытался объяснить, что именно кажущаяся непонятность его стихов — прекрасна, что трудность их восприятия оправданна и даже необходима, что автор имеет право ждать от читателя встречного усилия, труда и внимания. Только в том случае, если встречное усилие приводит к пустому яйцу…
Говорил я, конечно, ужасно сбивчиво, слишком недавно я сам думал иначе. Давка в метро усилилась, красный галстук все глубже вонзался в мою грудь, и как Пастернак понял мое «пустое яйцо», я не знаю. Во всяком случае, он продолжал настаивать на понятности стихов, их доходчивости:
— Я пишу, а мне все кажется, что вода льется мимо рукомойника…
Когда мы вышли на улицу, я так и не понял стремления Бориса Леонидовича к понятности. Доходчивость — это другое, для меня стихи Пастернака были «доходчивы», несмотря на их косноязычье, но мое приятие стихов не удовлетворяло его. Теперь, когда все творчество Пастернака передо мной, я думаю, что его стремление сделать стихи понятными срывало с них очарование молодости и бурной силы, тот звук, когда его стихи «рвались сжатым залпом прелести», и что поэтому некоторые стихи сороковых годов я люблю меньше.
…Я клавишей стаю кормил с руки…—
Можно ли сказать лучше, одною строкою раскрыть — и понятней, и проще — тайну музыкальной импровизации?
После нашего разговора в метро я еще несколько раз встречался с Пастернаком в кафе и даже один раз случайно — на улице. Я прошел с ним несколько кварталов. В тот вечер падал мокрый снег, и столбы фонарей нахлобучили белые шапки. Узнав, что я учусь в Берлинском университете, он заговорил со мною о Рильке, начал какое-то его стихотворение, но сбился, не вспомнив его до конца. Когда я сказал, что не люблю немецкого языка, где отрицание ставится в самом конце длиннейшего периода, где смысл составных и уродливых слов вдруг перечеркивается взрывающимся, как бомба, «нихт», Пастернак посмотрел на меня с удивлением и сказал, что он говорит не о карикатуре на язык, а о настоящем языке, на котором был написан «Фауст». Моей нелюбви к немецкому языку замечание Бориса Леонидовича не изменило, но все же, должен признаться, почувствовал я себя довольно глупо.
Однажды в кафе — на этот раз это было в «Прагердиле» — я решился прочесть Пастернаку одно стихотворение. За столом кроме Бориса Леонидовича сидели Эренбург и Шкловский. Взволнованный до полного косноязычья, — увы, не пастернаковского, — я кое-как пробормотал мои стихи. Пастернак повторил одну приглянувшуюся ему строчку, Эренбург отметил удачный образ, а Шкловский сказал, что мы все в молодости плаваем под чужими парусами.
В следующий раз я встретился с Пастернаком через тридцать четыре года, в 1957 году, когда мы с женой приехали к нему на дачу в Переделкино. И опять, как за треть столетия перед тем, он отвернулся от стихов, написанных в молодости: оп жил только тем, над чем работал в то время.
17
На лекции профессора Гильдебранта, читавшего об итальянском Возрождении, надо было приходить заранее. После контузии, полученной на войне 1914–1918 годов, Гильдебрант страдал боязнью пространства и не выносил больших университетских аудиторий. Зал, в котором мы собирались, был рассчитан человек на сто, но к началу лекций, несмотря на строгий контроль туда набивалось несколько сот студентов. Мы располагались на подоконниках, на столах, по двое на одном стуле. Когда в дверях появлялся Гильдебрант, небольшой, неуклюжий человек с длинными седеющими волосами, его приходилось протискивать сквозь сомкнутые ряды студентов, и когда профессор наконец поднимался на маленькую эстраду, стоявшую посередине комнаты, цеплялся за спасительный треножник проекционного аппарата, возвышавшийся над нашими головами, вид у пего бывал крайне смущенный и растерянный, а без того мятый пиджак оказывался совсем жеваным. Немного оправившись и подтянув свернувшийся на сторону галстук, Гильдебрант просил потушить свет, и начиналась лекция. На экране в полной тишине, нарушаемой только дыханием студентов, изнемогавших от духоты, вспыхивала черно-белая картина (цветных репродукций тогда еще не делали), потом деталь — сложенные для молитвы руки «Мадонны с вуалью» веселого монаха Филиппо Лишни. Через минуту — руки «Мадонны со святыми» Филиппино, сына Филиппо. Затем чудесное сплетение рук боттичеллиевских граций надолго застывало на экране. Гильдебрант говорил о том, как от отца к сыну, а потом к гениальному ученику Филиппо — Боттичелли — менялось изображение рук, как гибкие пальцы женщин становились все более и более бесплотными, как они одухотворяются и реализм, достигая высшего воплощения, теряет свою материальность, как плоть, достигая предельной ясности, теряет вещественность и становится духовной.