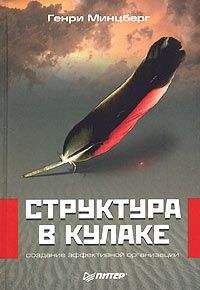Говорил Лапотников негромко, но толпа слушала его, затаив дыхание, и всем было слышно.
Кто-то один сказал:
— Мы пришли за патриаршим греком! Патриарх дал ему волю книги исправлять, а грек все книги перепортил.
Потом сказал другой:
— Арсену Греку смерть Соловками заменили, а патриарх его Москвой пожаловал! Своим Патриаршим двором!
И тут заголосила баба:
— Патриарху пристойно быть на Москве, за нас, православных, Бога молить! А он выдал нас, сирот, Антихристу!
Бабу потолкали в бока, затихла. Опять стал говорить Лапотников:
— Боярин, отпиши царю, царице и царевичу, чтоб патриарх и Арсений Грек не утекли в заморские страны. Всю правду отпиши! Попов у нас нет! Глядя на патриарха, разбежались.
Князь Пронский подождал, не скажут ли еще чего, и, перекрестясь, стал держать ответ:
— О всем, что просите, напишу к великому государю, к государыне царице и к царевичу. О патриархе же слова ваши непристойны! Святейший патриарх покинул Москву по указу великого государя. Пришлите ко мне людей, которым верите, я покажу им государеву грамоту.
На то князь поклонился людям и пошел во дворец, и люди, постояв и поговорив меж собою, стали расходиться и разошлись.
Не сразу и глазастые приметили — среди дня темнеет.
Собаки первые всполошились, такой лай и скулеж пошел, что и люди наконец на небо поглядели, а там — солнце на ущербе!
Ветер поднялся. Нехороший ветер! Как из задохнувшегося погреба — дохнуло на Москву.
Замычали коровы на лугах.
Кошки брызнули по улицам, словно кто их в мешке держал. И все черные.
Тьма пожирала солнце не торопясь, и люди смотрели на небо, ожидая Страшного суда, ибо все к тому сходилось: война, чума, Антихрист, испортивший святые книги, погубивший святые иконы.
Любаша, полковничья жена, собрала в тот немилосердный час всех чад своих на своей постели, и полковник Андрей к ним пришел.
— Господи! Об одном молю: не разлучай! — всего и попросила у Бога Любаша.
Ничего, однако, страшного не случилось. Завечеревший на середине день снова набирал силу. Света прибывало с каждой минутою, и вскоре солнце сияло по-прежнему.
Тут и кинулись москвичи, захватив с собою испорченные иконы, обратно в Кремль. Собрались с великим галдежом и угрозами у Красного крыльца.
Князь Пронский опять вышел к людям один. Хилкову занедужилось. На князя махали выскребенными досками, орали друг перед дружкою:
— Мы разнесем порченые доски по всем слободам!
— По всем сотням!
— Коли с патриарха нет спросу, с вас, бояр, спросим!
Пронский кланялся рассерженным людям в пояс, а потом и сам закричал:
— Да что ж вы с меня спрашиваете и за что?! Кому худа желаете, и так уж хуже некуда! Вы в чумном городе, и я с вами! Я от чумы не бегаю! Своего часа жду честно. Коли вам помирать, так и мне. А даст Бог жизни — будем жить! Бог затмил солнце, Бог и свету дал.
И заплакал. И люди заплакали.
Поразмыслив, выкликнули гостиной сотни троих купцов, послали с князем о делах говорить. Князь об одном просил:
— Ради бога, не будоражьте людей в лихой час! Зачинщиков всячески унимайте. Толпа для мора — большая потеха.
Купцы с князем во всем были согласны.
Показал он им грамоту, присланную от царицы. До царицы дошло, что недобрые люди о патриархе распускают богомерзкие слухи.
Прочитав царицыну грамоту, купцы тотчас ударили челом: сами они о патриархе бесчестных слов не говаривали, а коли услышат, то заводчиков воровства велят поймать и к боярам привести. Однако пусть патриарх пожалует Москву, пришлет обратно убежавших попов, чтоб было кому служить в приходских церквах.
На том и потишало волнение. Сникали люди, мор с каждым днем усиливался. Стало некому умерших подбирать.
21
Полковник Лазорев поутру, как было у него теперь заведено, обходил двор, проверяя посты, которые он надумал выставлять на ночь якобы от чумных — не дай бог, еще кто-нибудь во двор пролезет, — а на самом деле от своих: вдруг надумают бежать, заразу по Москве разносить.
Под утро прогремела короткая гроза, дождь умыл землю, и Лазорев тоже почувствовал себя молодым, сильным — на коня бы да в поле!
«Коня надо проведать», — решил он, продолжая обход и окликая дворовых: все ли на месте, здоровы ли?
Все были на месте, все были здоровы, и мелькнула у Лазорева проклятая мыслишка: пронесет! Как бы ни был силен мор, не все же помирают. Кто-то и останется. На развод.
Веселость и легкость, бродившие в крови, Лазореву не нравились, попробовал принахмуриться, да рассмеялся. Два воробья таскали у петуха корм. Пока петух кидался на одного, другой воровал.
Лазорев зашел в конюшню. Конь, нетерпеливо перебирая ногами, заржал.
— Ах ты, как обрадовался! — Андрей пошел было вглубь конюшни и — встал.
В яслях корчило старика конюха.
Перехватило дыхание, отступил, выпрыгнул за дверь. Закричал, себя не помня:
— Дегтя! Смолы! Огня!
Сам убежал в баню.
Вечером за ним пришла Любаша.
— Отворись!
— Нет, Любаша! Ты ступай, живи. Тебе к детишкам надо.
— Отворись! — повторила. — Зачем нам… в такие дни друг от друга хорониться? Может, дни-то последние.
Он подумал-подумал и покорно отворил дверь. Не зная, как выразить жене любовь свою, сказал:
— Умру за тебя!
— А я умру с тобой, — ответила Любаша. — Дня без тебя на белом свете не останусь.
И смотрели они, сидя на порожке, на звезды. Звезд было видимо-невидимо.
— Матушка моя любила на звезды смотреть, — сказала Любаша. — Матушки давно уже нет, а звезды светят и светят. И после нас будут светить.
— Ты про что? — испугался Лазорев.
— А не про что! Хорошо, коли есть вечное. Не забудут они нас.
— Кто не забудет?
— Луна, солнце, звезды, Господь Бог.
— Чудно ты говоришь, Любаша.
— А что ж чудного? Не хочу, чтоб про нас с тобою забылось. Я так люблю тебя, что об одном только и жалею: не могу дышать твоим дыханием, не могу твоим сердцем стучать.
— Да ведь и слава богу, что мы не один человек. Слава богу, что двое нас.
Утянула Любаша Андрея в баньку, а когда налюбились, спросила:
— Неужто нам отсюда хода нет?! Царица с патриархом уехали. И боярыня Морозова с ними. И все иные… Что ж мы-то сидим и ждем?
— Теперь поздно уезжать, — сказал Андрей.
Она посмотрела ему в глаза.
— А если бы… а если бы я… побежала?.. О! Я вижу, как ты смотришь. Ты ради царской службы и меня бы не пощадил?
— Зачем ты так говоришь? — Андрей опустил голову. — Да ведь если бы и побежала отсюда, так то была бы уже не ты, не Любаша.
— Но кто же?