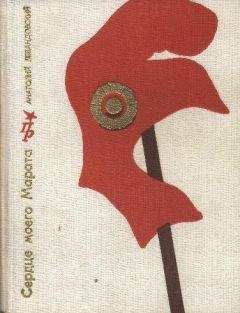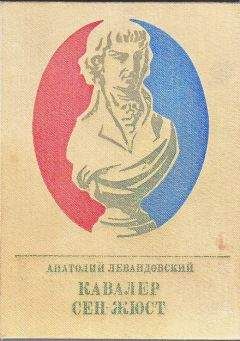Вот тут-то у государственных людей и произошла осечка.
На прошлом заседании, стремясь во что бы то ни стало свалить ненавистного врага, Гюаде привел из циркуляра лишь те «зажигательные» места, которые лили воду на его мельницу. Теперь же, прочитанный полностью, документ произвел совершенно иное впечатление — он выглядел патриотическим призывом, направленным к спасению республики, и нет ничего удивительного, что галереи сопровождали каждую фразу его криками восторга.
На скамьях Горы начался ропот.
Вскочил Дюбуа-Крапсе. Он воскликнул:
— Если этот циркуляр преступен, декретируйте обвинение и против меня, ибо я полностью его одобряю!
Художник Давид прибавил:
— Пусть документ положат на трибуну и все патриоты подпишут его!
Эти слова отозвались в душах монтаньяров словно призыв боевого горна. Раздались крики:
— Мы все одобряем его! Мы его подпишем!
Галереи ответили дружными аплодисментами.
И вот монтаньяры, вставая один за другим, потянулись к трибуне, чтобы поставить свои подписи вслед за подписью Марата. Среди них, кроме Дюбуа-Крансе и Давида, я узнал Бентабола, Демулена, Ромма и Огюстена Робеспьера, младшего брата Максимилиана; всего подписалось около девяноста человек.
Кое-кто проявил нерешительность.
Робеспьер встал, сделал несколько шагов, пожал плечами и вернулся на свое место.
Дантон остался недвижим.
Жирондисты, неприятно пораженные потоком подписей монтаньяров, дрогнули, но устояли.
Делоне вернулся к обвинительному акту.
Марат обвинялся в призывах к грабежам и убийствам, в покушении на народный суверенитет и даже в намерении уничтожить Конвент; обвинения эти, помимо циркуляра от 5 апреля, опирались на два старых номера газеты Друга народа…
Тщетно Шарлье требовал отложить обсуждение декрета, тщетно Робеспьер заявлял, что в отсутствие обвиняемого нельзя голосовать обвинение, — ведя на поводу послушное Болото, противники настояли на немедленном голосовании.
Единственно, чего добились монтаньяры, — это поименной подачи голосов, при которой каждый депутат должен был мотивировать свое решение. Подобный порядок применялся в Конвенте всего дважды: первый раз — на процессе Людовика XVI, второй — теперь, на «процессе» Марата…
Голосование проводилось шестнадцать часов подряд, и я, естественно, не дождался его результатов. Однако, сидя на своей галерее и прикидывая шансы, я понял, что рассчитывать на благоприятный исход не приходится; не случайно жирондисты проводили свой демарш именно в эти дни: около сотни монтаньяров находилось в командировках, и государственные люди знали, что большинство у них в руках.
Я вновь полетел на улицу Кордельеров.
* * *
Только что вернувшаяся от Марата Симонна слушала меня рассеянно. Я осторожно пытался подготовить ее к самому худшему.
Она вдруг рассмеялась:
— Зря стараешься, Жан. Какое значение имеют все эти декреты и прочая мышиная возня наших врагов в Конвенте?
Я опешил:
— Позволь, а что же имеет значение?
— А то, что народ полностью за него. Я, представь себе, кое-что увидела, кое-что услышала и теперь в этом абсолютно уверена. И еще я уверена: отсутствие Марата не будет продолжительным. Скоро он вернется домой…
Я выпучил на нее глаза; она говорила вполне серьезно. Ну, чем бы дитя ни тешилось…
Все же я спросил:
— Так ты не очень расстроена?
— Совсем нет. Скоро и ты все поймешь. Вот только здоровье…
Она вздохнула.
Я чувствовал себя неловко, не зная, о чем еще говорить.
Она поняла мое молчание по-своему.
— Слушай, мой милый, на тебе лица нет. Поди, опять прошатался целую ночь? Знаешь что: ложись-ка ты спать!
И я лег спать. Кстати говоря, это было самое разумное, что я мог сделать.
А утром стали известны результаты голосования — их принес Лорен Ба.
За то, чтобы предать Марата суду, высказались двести двадцать депутатов, против — девяносто два, семь человек голосовали за отсрочку и сорок восемь воздержались.
Этого можно было ждать — на заседании присутствовало менее половины членов Конвента!..
Я быстро собрался, простился с Ба и Жаннеттой — никого больше дома не оказалось — и поспешил на новое место службы: мой трехдневный отпуск кончился.
Дом милосердия отличался от Отель-Дьё, где я начинал свою медицинскую практику, меньшей скученностью и большим порядком. Правда, нужно учесть, что пришел я сюда в военное время, когда госпиталь в основном обслуживал армию. Кроме того, в годы революции муниципальные власти стали больше заботиться о лечебных заведениях. Так или иначе, новая работа далась мне легко, и с первых же дней я уверенно вошел в свою роль. Дешан во многом напоминал мне Дезо: столь же пунктуальный и аккуратный, так же преданный своему делу, он, как и мой прежний мэтр, большую часть суток проводил в госпитале. Особенно порадовало меня, что среди ассистентов Дешана я встретил кое-кого из старых знакомых, в том числе Эмиля Барту, имя которого уже упоминалось на страницах этой повести.
Работа на первых порах занимала у меня весь день. Вечера я проводил или у Луизы, или у Симонны. За жизнью общественной следить почти не мог; впрочем, она сама ежедневно напоминала о себе.
Я вскоре начал понимать мысль Марата о том, что история с якобинским циркуляром и обвинение в Конвенте содействовали подъему революции. Никогда еще но видел я такого оживления в столице, как в эти апрельские дни. Повсюду собирались толпы людей, мужчин и женщин; ораторы, словно в октябре 1789 года, выступали в парках и на площадях. Они доказывали народу, что борьба против богачей, за хлеб, за прогрессивное обложение и за Марата — это одно и то же. Среди прочих меня поразил один, я видел его несколько раз у парка Тюильри; он выступал с передвижной трибуны и требовал немедленного восстания против Конвента с целью свержения господства Жиронды. Этот человек собирал несметную толпу слушателей. Я узнал его имя; его звали Жан Варле.
15 апреля тридцать пять секций Парижа, поддержанные Коммуной, подали Конвенту петицию против двадцати двух жирондистов во главе с Бриссо, Верньо и Гюаде. Петиция, подписанная мэром Пашем, требовала изгнания и ареста жирондистов.
Адреса в поддержку Марата шли из Братских обществ разных районов страны.
Но особенно знаменательным было то, что сам Марат ни на день не прекращал своей деятельности. Его газета продолжала регулярно выходить, он засыпал Конвент и Якобинский клуб посланиями, в которых обличал своих врагов и требовал незамедлительно назначить день суда.