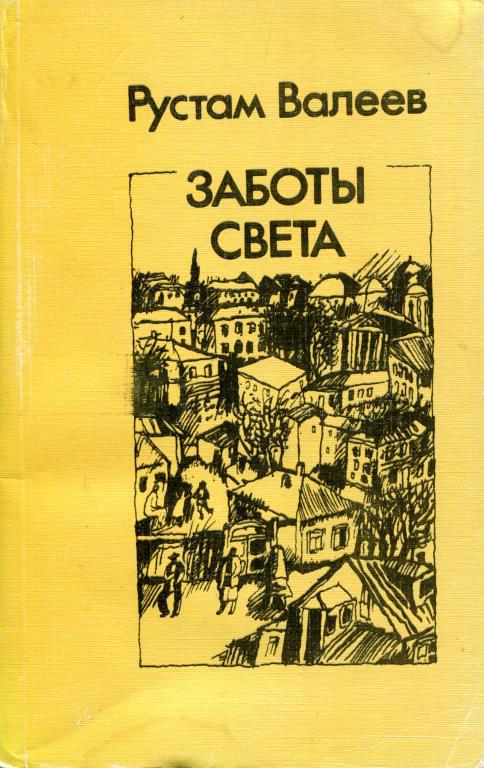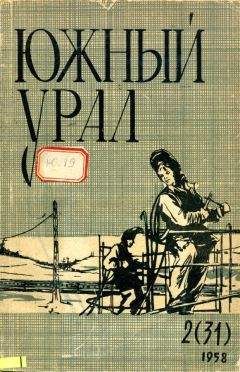уходил, горько терялся перед нежными ее руками, блеском ее глаз.
— Тогда я вам скажу. — Она потянулась за шалью, накрыла плечи, соединив края шали и придерживая у подбородка. — Я возвращаюсь в Оренбург, хочу немного покоя… Разве что-нибудь вас удерживает здесь?
— Молчите, — сказал он. — Ради бога, молчите!
Умолять ее, чтобы она замолчала в эту минуту, было уже обидой, оскорблением. И больно же было видеть, как потухает в ее глазах живой, ласковый блеск и тенью сходит с лица задумчивость, которую он так любил в ней.
— Я пойду, — сказал он тихо, упрямо и виновато прибавил: — Уже ведь поздно.
Она что-то прошептала на прощанье, и так ему хотелось — и он перевоссоздал на свой лад ее последние, вслед ему, слова: «Да поспешествует бог всем делам твоим и да хранят тебя ангелы его!»
В одно обыкновенное утро, не зная, какое оно по счету в календаре, очнулся он с легким и свежим чувством. Чистой, снежной светлотой полнилась комната, тишина стояла такая, как будто минутой раньше отзвучал в ней удивительный напев.
Угадывая слабость тела, он старался его не тормошить. А душе было хорошо, не больно… но сколько же времени прошло? Вспоминал.
А немало же встреч, разговоров и случаев оказалось как бы выпавшими из памяти за эти дни! И он воскрешал их теперь, не переживая внове, а как бы только наблюдая памятью.
Оказывается, в один из этих дней был у него Селим, посвежевший и бодрый, говорил, что оставил сочинение реклам и поступил в типографию Шарафа; среди рабочих теперь у него друзья, он независим в деньгах, но главное — занят настоящим делом.
Был Абузаров, все прежний, шумный, но голос прозвучал покаянно-тихо, когда он объявил новость: купил часть акций мыловаренного предприятия. Еще один промышленник, бог с ним.
Вспомнил, как приехали они с Бахтияровым в редакцию, а там Фатих и его гости разговаривали — о чем же? — о философии Ибн-Хальдуна. Но вот что удивительно: разговаривали как ни в чем не бывало, как будто не существовало ни жандармских козней, ни угрозы, нависшей над ними всеми, ни разгрома медресе в Иж-Буби. Уж так привыкли ко всякого рода напастям, что гореванию предпочитали житейский промысел. А может быть, нападки те научили осторожности — даже стены теперь имели глаза и уши.
…Но сколько же времени прошло с той ночи, когда он возвращался от Фираи-ханум? Светила полная луна, и было так серебряно-тихо, что мнились звоны или только остатки звонов, отпечатанные надолго в морозном серебряном воздухе. Сонный будочник хрипло окликнул его и спросил курева. Он дал будочнику две или три папиросы и сам закурил тоже.
— От барышни идете? — добродушно поинтересовался дядька.
— От барышни, — ответил он и пошел.
Долго он шел и крепко продрог. Пил в номере чай, глотал аспирин, а потом, завернувшись в одеяло с головой, заснул мгновенно. Наполовину просыпаясь, весь в поту, отбрасывал одеяло и, опять же в полусне знобясь и корчась, накрывался с головой. Коридорный, добросердечный деревенский парняга, услуживал ему между своими делами: приносил еду из ресторана, кипятил чай, менял несколько раз постельное белье. Впрочем, он бы не удивился, если бы оказалось, что парняга только мерещился в лихорадочном бреду. Он замечал, как день сменяется сумерками, а сумерки переходят в ночь; постоянно являлись и уходили то Фатих, то Акатьев, то Фирая-ханум, то зеленоглазая девушка с книжкой в руке, а в какой-то момент зашел в комнату Камиль. На секунду очнувшись, он подумал: блазнится, Камиль далеко, в Уральске.
На пятый день он встал и поехал в редакцию.
— Рано ты поднялся, — сказал Фатих.
— Мне уже лучше.
— Хотел послать к тебе врача, — продолжал Фатих, — да ведь знаю тебя: разобидишься, а то и просто прогонишь. Однако не мешало бы показаться хорошему доктору.
— Пожалуй. Какие новости?
— Наши депутаты написали письмо в Думу.
— Эти либералы похожи на одного моего знакомого. Косая сажень в плечах, а придет и плачет: мастер дерется. Не было ли мне писем?
— Нет. А ты ждешь что-нибудь особенное?
— Ну, а вдруг кто-нибудь вспомнит нечаянно. Послушай, Фатих, не хочешь ли ты выпить?.
— Не хочу и тебе не советую. Оставь, пожалуйста, свою мрачность! Вот скоро придут девушки…
— Девушки?
— Постой же! Сядь.
— Ну, сел.
— Мы не в том возрасте, когда отваживаются советовать или принимать советы в делах интимных. Но… если ты позволишь… отчего бы тебе не жениться?
— Но у меня нет невесты.
Помолчав, Фатих как бы дал понять, что этакое остроумие ничуть ему не интересно. Потом заговорил так мягко, так мечтательно, как будто увещевая и себя тоже:
— Семья, быть может, единственное, чем можно дорожить на этом свете. Боже мой, да если тебе симпатизирует умная, скромная и добрая девушка!.. А Зейтуна истинно доброе и благородное существо…
— Не знаю, — сказал он тихо, — добра ли она, но ты, ты добр! Спасибо… однако мой удел, видно, одиночество. — Он встал, порывисто и крепко сжал ему руку и вышел.
Но странным, приятным возбуждением наполнил его этот разговор. А верно, думал он, семья и дети — единственное, чем можно дорожить на этом свете. Я никогда не был оптимистом, но нельзя не верить, что порядок вещей в этом мире направлен к лучшему. В жизни мало радостей, но радует и дает человеку надежду извечность, постоянность жизни. И должно радовать преодоление. И, в конце концов, совсем уж просто — если судьба посылает тебе доброе и верное существо, протяни руку, помоги ему, помоги себе!
Ему захотелось выпить, и он усмотрел в этом некий положительный знак — потому, быть может, что подобное занятие происходит прилюдно. Он зашел в первую же встретившуюся харчевню и занял свободный столик в углу, подальше от сквозняков. Выпил рюмку, удивился, ровно впервые почувствовал разлившееся по телу благодатное тепло, взволновался каким-то неясным ожиданием: что-то должно было вспомниться… что-то подходило… быть может, случай какой или встреча. Это «что-то» пришло в виде простой и радостной мысли: что бы там ни было, он сумеет всегда взять в руки свои поступки, а даст бог — и судьбу.
— Да, — сказал он вслух, — и судьбу тоже. — Но в звуках собственного голоса ему послышалось что-то прощальное, и в душном говоре харчевни прозвучал напев потери, который так часто он слышал за свою жизнь.
Через стол от него сидел вор с гаерскими усиками, с шелковым кашне вокруг шеи, концы которого с каким-то особым шиком, присущим этому сброду, были сунуты в жилетку. К вору подошла вихляющей, вольной походкой девица с насурьмленными ресницами, из-под которых лукаво