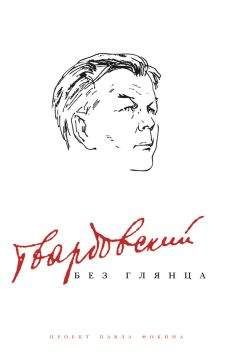Он сильно изменился, похудел, осунулся, а после курса облучения заметно поредели волосы на голове. Последнее время один седой клок свисал на пустом куполе высокого лба, немного напоминая Тараса Бульбу. Он был тих, слаб и светел, как ребенок, а выцветшие голубые глаза его – доверчивы и несчастны. Пытался сказать что-то – выходило с трудом. „Мечется… – говорил он. – Мечется…“ Слово мечется, а его не схватишь.
Но поразительно, как цельно было до конца его нравственное сознание. При нем я старался говорить и вести себя так, будто ничего не случилось, и мы по-прежнему, по-бывалому беседовали не спеша: я рассказывал свежие новости, передавал впечатления от прочитанных рукописей и книг. Он слушал внимательно, с видимым участием, кивал, пытался ответить что-то. Иногда произносил два-три внятных и точных слова, потом, не сладив с концом фразы, замолкал. Но не было случая, чтобы он спутал нравственные акценты. Слушая о людях и обстоятельствах, ему знакомых, он эмоционально реагировал на все точно так, как и до болезни: сердился, презирал, любил». [4; 189–190]
Григорий Яковлевич Бакланов:
«Я увидел Александра Трифоновича, когда его привезли домой из больницы – после многократных лечений, после облучения. Все знали уже: надежды нет.
Многие в те дни старались вести себя при нем естественно, так, будто ничего не случилось, и это была мучительная ложь. Лишенный дара речи, сильно исхудавший, истончившийся, он смотрел молча, все видя, все понимая.
А вот Зиновий Гердт как будто ничего и не старался. Он приходил, сильно хромая, спрашивал деловито:
– Так!.. Кипяток есть? Помазок? Будем бриться.
И крепко мылил горячей пеной, не боясь голову сотрясти, брил как здорового, и что-то рассказывал своим громким голосом. Обвязанный полотенцем, намыленный, а потом умытый, с лоснящимися после бритья щеками, освеженный, Александр Трифонович радостно смотрел на него, охотно слушал.
А утешение доставлял младенец, младший внук. Не ведая ничего и не сознавая, с той правотой, которую жизнь дала, он топал по полу, не страшась штаны потерять. Обутый в толстые шерстяные носки деревенской вязки, как дед его когда-то, светлый, рыженький, неправдоподобно похожий, он топал храбро по дому, а дед поворачивал голову, смотрел вслед, провожал взглядом». [2; 522]
Владимир Яковлевич Лакшин:
«По неотступной просьбе Ольги Берггольц, я привез ее однажды к нему в Пахру. Она пробовала говорить с ним тихо и ласково, а едва мы вышли за дверь, расплакалась и сказала хрипло: „Это не он. Его нет“». [4; 190]
Алексей Иванович Кондратович:
«Первый раз после начала болезни я его увидел 10 марта. ‹…›
Александр Трифонович сидел на веранде в кресле. Увидев нас, засветился, потянулся к нам. Он подал нам здоровую левую руку, – в ней была жизнь, в пожатии я почувствовал силу, которую еще надо было немного сдерживать, и меня это очень обрадовало. Потом я увидел, как он этой левой довольно ловко достал из кармана пижамы сигареты и, зажав в коленях коробок спичек, сам прикурил, и во мне вспыхнула надежда: а вдруг, случаются же на свете чудеса!
– Новости… Есть?..
Спросил, как прежде, только слова теперь существовали отдельно, не связываясь в одну слитную фразу. И я сказал, что кое-какие новости есть, и рассказал ему о них, и он слушал с вниманием, весь подавшись вперед, а за окном виднелся кусочек дачного участка с березами и елками, просвеченными мартовской синевой, маленький кусочек Смоленщины, или Подмосковья, или самой России – все, что осталось ему видеть каждый день. Но казалось, что он и этим доволен. Он улыбался, слушая новости и поглядывая своими синими-синими глазами за окно. И подумалось мне, что чудо и впрямь может случиться.
И тогда Александр Григорьевич Дементьев сказал: „Давай-ка, Саша, пройдемся, ты же любишь ходить“. С помощью Дементьева он с удовольствием и без особого напряжения поднялся и, уверенно ступая левой ногой и приволакивая правую – еще месяц назад она была совсем неподвижна, – прошел всю длину комнаты и обратно. „Смотри, смотри, Саша, сейчас гораздо лучше, чем в последний раз“, – удивлялся Дементьев, и в голосе его тоже слышалась надежда.
– Какой прекрасный день! – сказал я. – По всему видно – началась весна.
Сказать мне хотелось не то, мучительно хотелось сказать, что, может, все обернется по-другому, и болезнь пойдет вспять. Почувствовав мое настроение, Александр Григорьевич нашел осторожные слова моей и своей, нашей общей надежды:
– Да, Саша, хорошо на улице. Скоро все растает, не заметишь, как май пройдет, и ты выйдешь под те вот березки…
И слушая его и продолжая улыбаться, Александр Трифонович в ответ медленно повел головой. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но смотрел он не на окно, а на нас, и медленно повернул голову в одну сторону, затем в другую. („Нет, – безмолвно ответил он, – по траве я уже больше не пройдусь…“)
Он все знал и ни на что не надеялся. И был спокоен. Только улыбка медленно стала сходить с лица. И, по-моему, он нас в это время не видел». [3; 370–372]
Федор Александрович Абрамов:
«– Не советую ездить. Нет больше Александра Трифоновича. Понимаешь? Я был недавно у него на даче, посидел, вышел на воздух, а вернуться обратно не смог. – Так говорил мне А. Кондратович, с которым я встретился на съезде. Но, помнится, я не очень-то прислушивался тогда к его словам. А уж насчет того, чтобы не ездить к Твардовскому, раз представилась мне такая возможность, и речи не могло быть. ‹…›
И вот с Гаврилой Троепольским мы катим в Пахру (4 июля 1971). ‹…›
В прихожей нас встретила младшая дочь А. Т., затем появилась Мария Илларионовна, и мы вошли в гостиную, где в кресле, перед окном, сидел больной Александр Трифонович.
Да, да, Кондратович прав. Это не Твардовский. Это какой-то совсем другой человек. ‹…›
Мы поздоровались с поцелуем, вернее, приложились к Александру Трифоновичу, как к иконе.
Добрейший Гаврила Николаевич начал деланно-бодрым голосом (а потому особенно фальшивым) говорить, какой он молодец, Александр Трифонович, как хорошо выглядит (возможно ли сие было раньше!), потом спросил конкретнее: как же все-таки со здоровьем-то?
– Христос и подушка, – загадочно, тоном юродивого ответил Александр Трифонович.
Помолчал и сказал уже проще:
– Дай тебе бог.
Дальше разговор взяла в свои руки подошедшая к нам Мария Илларионовна, и тут я наконец смог оценить, что это за женщина. Сильная. Умная. Прямая. Одним словом, жена Твардовского.