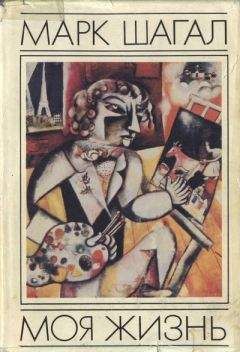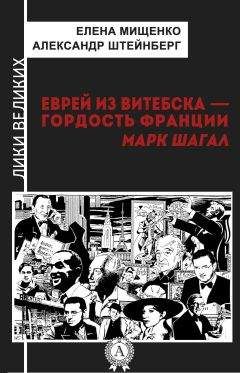Я не выхожу. Вернее, выхожу, но подруга сидит ко мне спиной и не видит.
У меня какое-то странное чувство.
Досадно, что меня потревожили и спугнули надежду дождаться, когда подойдет Тея.
Но эта некстати явившаяся подруга, ее мелодичный, как будто из другого мира, голос отчего-то волнуют меня.
Кто она? Право, мне страшно. Нет, надо подойти, заговорить.
Но она уже прощается. Уходит, едва взглянув на меня.
Мы с Теей тоже выходим погулять. И на мосту снова встречаем ее подругу.
Она одна, совсем одна.
С ней, не с Теей, а с ней должен я быть — вдруг озаряет меня!
Она молчит, я тоже. Она смотрит — о, ее глаза! — я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз.
И я понял: это моя жена.
На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа.
Тея вмиг стала чужой и безразличной.
Я вошел в новый дом, и он стал моим навсегда.
Белла. 1910-е. Бумага, тушь.
Моя мастерская помещалась в нашем же дворе, в комнате, которую я снимал у Явичей. Проходить туда надо было через кухню и хозяйскую столовую, где сидел сам хозяин, торговец кожей, высокий бородатый старик, — сидел за столом и пил чай.
Когда я шел мимо, он чуть поворачивал в мою сторону голову: «День добрый».
Мне же при виде накрытого стола с лампой и двумя тарелками — из одной выглядывала здоровенная кость — делалось неловко.
Дочь его — перезревшая, чернявая и некрасивая девушка, с широкой, но какой-то странной улыбкой.
Волосы у нее, как у ангела на иконе, глаза застенчиво поблескивают.
Завидев меня, она старалась прикрыть лицо платком или краем скатерти.
Мою комнату заливал густо-синий свет из единственного окна. Он шел издалека: с холма, на котором стояла церковь.
Этот пригорок с церковью я не раз и всегда с удовольствием изображал на своих картинах.
Вхожу, бросаюсь на кровать. Вокруг все то же: картины по стенам, неровный пол, убогий стол и стул, и везде пылища.
Тихонько, одним мизинчиком стучится в дверь Белла.
Она прижимает к груди большой букет из веток рябины: сине-зеленые листья и красные капельки ягод.
— Спасибо, вот спасибо! — говорю я.
Да что слова!
В комнате темно. Я целую Беллу.
Передо мной уже выстраивается натюрморт.
Белла мне позирует. Лежит обнаженная — я вижу белизну и округлость.
Невольно делаю к ней шаг. Признаюсь, в первый раз я вижу обнаженное женское тело.
Хотя она была уже почти моя невеста, я все боялся подойти, коснуться, потрогать это сокровище.
Так смотришь на блюдо с роскошным кушаньем.
Я написал с нее этюд и повесил на стену.
На другой день его узрела мама.
— Это что же такое?
Голая женщина, груди, темные соски.
Мне стыдно, маме тоже.
— Убери этот срам, — говорит мама.
— Мамочка! Я тебя очень люблю, но… Разве ты никогда не видела себя раздетой? Ну, вот и я просто смотрю и рисую. Только и всего.
Однако я послушался. Снял обнаженную и повесил другую картину — какой-то пейзаж с процессией.
Вскоре я переехал в другую комнату, на квартиру жандарма.
И был даже рад. Мне казалось, что он охраняет меня днем и ночью.
Рисуй что хочешь.
Жандарм. 1910-е. Бумага. Тушь.
И Белла может приходить и уходить когда вздумается.
Жандарм был здоровенный, с длинными усами, как на картинке.
Напротив дома — Ильинская церковь.
Как-то вечером — была зима, шел снег — я вышел проводить Беллу до дому, мы обнялись и вдруг чуть не споткнулись о какой-то сверток.
Что это?
Подкидыш. Пищащий живой комочек, укутанный в темный шерстяной платок.
Я с гордостью вручил находку моему всемогущему жандарму.
В другой раз, тоже поздно вечером, хозяева заперли дверь, так что Белла не могла выйти.
Коптит лампа. На кухне, прислонившись к печке, дремлют лопаты и ухваты. Тишина. Застыли пустые кастрюли.
Как же быть? Перебудим соседей, что они подумают? «Полезай-ка в окно», — говорю я.
Мы хохочем. И я помогаю ей вылезти на улицу.
На другой день во дворе и по всей округе судачили: «Она к нему уже скачет в окошко. Вот до чего дошло!» И попробуйте сказать им, что моя невеста непорочна, как Мадонна Рафаэля, а я — сущий ангел!
Углов и комнат сдается великое множество. Объявлений — как грибов после дождя.
Поначалу я снимал в Петербурге комнату на пару с начинающим скульптором, которого Шолом-Алейхем назвал будущим Антокольским (вскоре он стал врачом).
Он с тигриным рыком набрасывался на глину и яростно мял ее, чтобы не пересохла.
Казалось бы, мне-то какое дело? Но я как-никак живой человек. И просыпаться каждую ночь от его сопения совсем не сладко.
Наконец однажды я запустил в него лампой и закричал:
— Иди куда хочешь, катись к своему Шолом-Алейхему, а я хочу жить один!
Сразу по приезде я отправился сдавать вступительный экзамен в Училище технического рисования барона Штиглица.
Вот здесь, думал я, глядя на здание школы, мне могут выдать вид на жительство в столице и пособие.
Но пугала одна мысль о нудных занятиях, копировании бесконечных гипсовых орнаментов, напоминающих лепные потолки в больших магазинах.
Эти орнаменты, как мне показалось, для того и придуманы, чтобы преградить путь ученикам-иудеям, помешать им получить необходимое разрешение.
Увы! Предчувствия не обманули меня.
Я провалился на экзамене. Не получил ни пособия, ни рекомендации. Что ж, ничего не поделаешь.
Пришлось поступить в более доступное училище — в школу Общества поощрения художеств, куда меня приняли без экзамена на третий курс.
Что я там делал — трудно сказать.
Изо всех углов на меня смотрели головы греческих и римских граждан, и я, бедный провинциал, должен был вникать в ноздри Александра Македонского или еще какого-нибудь гипсового болвана.
Иногда я щелкал их по носу или засматривался на груди стоявшей в глубине мастерской пыльной Венеры.
Меня хвалили, но сам я не видел особых успехов.
Тошно было смотреть на несчастных трудяг-учеников, корпящих в поте лица над бумагой, налегая на резинку, точно на плуг.
Все они были неплохие ребята. С любопытством поглядывали на мою семитскую физиономию. И даже посоветовали собрать эскизы — потом я выкинул их все до единого — и подать на конкурс.
Я так и сделал и, оказавшись в числе четырех стипендиатов, решил, что с нищетой покончено.
Целый год я получат по десять рублей в месяц.
Разбогател и чуть не каждый день наедался до отвала в забегаловке на Жуковской улице, хотя после тамошней стряпни мне частенько становилось худо.
Потом моим спасителем стал скульптор Гинцбург[14].
Щуплый, маленький, с жидкой черной бородкой, он был замечательным человеком. Всю жизнь вспоминаю о нем с благодарностью.
Его мастерская, помещавшаяся прямо в здании Академии художеств и набитая пробными слепками его учителя Антокольского и его собственными работами — бюстами всех знаменитых современников, — казалась мне средоточием избранников судьбы, успешно преодолевших тернистый жизненный путь.
И в самом деле, этот человечек был коротко знаком с Львом Толстым, Стасовым, Репиным, Горьким, Шаляпиным и другими титанами.
Он был в зените славы. Кто я рядом с ним — ничтожество, мальчишка, не имеющий ни средств, ни даже права жить в столице.
Не знаю уж, что он разглядел в моих юношеских работах. Так или иначе, но он дал мне рекомендательное письмо к барону Давиду Гинзбургу, как поступал обычно в подобных случаях.
Барон же, готовый видеть будущего Антокольского в каждом юном таланте (сколько разочарований!), предоставил мне пособие в десять рублей, правда, только на несколько месяцев.
Дальше — выкручивайся как знаешь!
Этот образованный барон, близкий друг Стасова, не Бог весть как разбирался в искусстве.
Но считал своим долгом учтиво беседовать со мной и потчевать поучениями, из коих следовало, что художник должен быть очень и очень осмотрительным.
«Вот, например, у Антокольского была жадная жена. Говорят, она прогоняла с порога нищих. Будьте же осторожны. Учтите, женщина многое определяет в жизни художника».
Я почтительно слушал, но думал совсем о другом.
Вот уже четыре или пять месяцев я получаю от него пособие.
Он так любезен, так заботливо со мной разговаривает. Раз так, может, он станет помогать мне и дальше, чтобы я мог жить и работать?
Но вот однажды, когда я пришел за очередной десяткой, величественный лакей, протянув мне купюру, сказал:
— Это в последний раз.