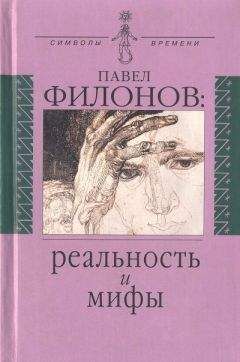В работах, последовавших за «Головами», живописец расширил рамки происходящего. Он визуализировал две ветви исторического процесса: от грехопадения Адама и Евы до текущего момента («Мужчина и женщина», 1912–1913) и от современности до конца времен («Россия после 1905 года», ранее известна как «Композиция с всадником». 1912–1913. ГРМ). В них прошлое сливается с грядущим, окрашенным в цвета очистительного пламени: подобно блоковской птице Гамаюн, Филонов «вещает казней ряд кровавый, и трус, и голод, и пожар, злодеев силу, гибель правых»[42]. Он окончательно отказывается от пространственно-временной конкретности изображения. Фигурки в костюмах разных эпох и народов возникают то здесь, то там среди свободных заливок краски, которые, подобно всепоглощающему времени, смывают, стирают субъектов исторического процесса. Выстраивая образные ряды картин, автор как бы спрессовывает воедино «тварное» время, визуализирует определение современности как эпохи, когда начинает рождаться «чувство четырехмерного пространства. Ощущение прошлого и будущего как настоящего. Пространственное ощущение времени. Существование прошедшего и будущего вместе с настоящим и вместе одно с другим»[43]. Иными словами, Филонов вместе с другими мастерами авангарда подводит итог нескольким векам развития европейского искусства, когда, начиная с Ренессанса, картина уподоблялась окну в мир, а в хронотопе доминировала пространственная составляющая. Он, по образному замечанию Хлебникова, и в самом деле «ведет войну, только не за пространство, а за время»[44], и, «отымая у прошлого клочок времени»[45], проделывает ту же операцию с грядущим.
И как в мирочувствовании современников мысли о приближающейся катастрофе сосуществовали с предчувствием «грядущих зорь», так и Филонов не замыкался на трагических аспектах Апокалипсиса. «Проанализировав» их в первой главе своего исторического мифа, он посвятил его «вторую главу» переходу мира в преображенное состояние. Она отличается от предыдущих произведений не только настроением — в ней более отчетливо звучит оптимистическая нота, но и новыми отношениями с идеями, питавшими его творчество. Если «апокалиптические видения» в филоновских картинах непосредственно апеллировали к литературным первоисточникам, то ныне полет его фантазии более свободен. Он выстраивает собственную концепцию истории, переосмысляя и обобщая идеи, почерпнутые у многих властителей дум. На сей раз явные совпадения читаются не только с текстами теургов, верность которым он сохраняет и в дальнейшем, но и с учением Н. Ф. Федорова. В отличие от Соловьева, для которого формирование Богочеловечества носило по преимуществу трансцендентный характер, «московский Сократ» выстроил грандиозную программу «имманентного» воскрешения всех людей, когда-либо живших на земле. Ее осуществление должно будет взять на себя прозревшее и повзрослевшее человечество, которое сосредоточит свои усилия на том, чтобы исполнить забытый ныне долг перед отцами, т. е. перед поколениями, сошедшими с исторической сцены. Скорее всего, именно такое утверждение активной позиции индивидуума должно было привлечь Филонова. Его мифологический цикл превращается в визуальный вариант «Философии общего дела». И даже название цикла — «Мировый расцвет» — могло быть реакцией на пророчества Федорова о том, что в будущем люди обретут способность «жить во всей вселенной, дав возможность роду человеческому населить все миры, <…> и силу объединить миры вселенной в художественное целое (курсив мой. — Л.П.)»[46].
Как и в учениях Федорова и Успенского, в концепции истории Филонова метафизика причудливо переплелась со своеобразной интерпретацией новых открытий в точных науках. Таково было знамение времени, когда идеи, совершенно фантастические с точки зрения позитивистской логики, представлялись не нарушающими естественно-научной картины мира. Художник отрицал малейший намек на присутствие «мистики» в его работах[47].Он искренне верил, что в конце времен сформируется новый человек, избавленный от «физической» оболочки и от порождаемых ею несовершенств. Но в отличие от Скрябина, Филонов полагал, что грядущее преображение не будет мгновенным. Новые черты «в человеке и сфере» уже возникают. Они будут постепенно накапливаться, подготавливая переход людей и мира в качественно новое состояние. Такая трактовка исторического процесса напоминает эволюционную теорию, спроецированную на будущее и пророчествующую о восхождении человечества к «высшему интеллектуальному» его виду, неслучайно Филонов советовал ученикам непременно прочесть «Происхождение человека и половой отбор» Дарвина и «Диалектику природы» Энгельса.
И поскольку человечество в своей эволюции будет преодолевать ряд этапов, отличающихся степенью «совершенствования», для изображения каждого из них Филонов выбирает свой вариант пластического языка, используя его как своеобразную систему визуальных метафор. Для воплощения ранней фазы трансформации человеческой природы, трактуемой как объективный процесс, сопровождающийся началом распада материальной оболочки, он соединяет приемы примитива и кубизма с футуристическим эффектом множащихся элементов («Перерождение человека», 1913–1914, ГРМ). В акварели из собрания музея Людвига (как и многие из картин мастера, она осталась произведением «Без названия», 1912–1915)[48], процесс заходит дальше, и характерное мелькание многочисленных рук и ног соседствует с изображением плоти, распадающейся на аналитические частицы (материальные или световые корпускулы?). О. В. Покровскому акварель внушила ощущение, будто «мир разбился на осколки с острыми режущими краями»[49]. Но, может быть, ученик, для которого идеи символистов-теургов, питавшие творчество наставника, были всего лишь «полузабытыми строками полузабытых поэтов», воспринял метафорический язык картины слишком упрощенно. Он не заметил, что ощущение угрозы, и в самом деле присутствующее в образном ряду акварели, ассоциируется со страхами, которые определяют мучительное существование человека в царстве материи. Но им подвластны лишь первые шаги человечества в процессе эволюции. Голубизна, возникающая в окраске частиц, как бы вытесняет земляные краски и тем самым перебрасывает мост надежды от настоящего к просветленному будущему.
От этой акварели один шаг к беспредметности «Германской войны» (1915, ГРМ), где большую часть полотна занимает изображение частиц, еще не утративших своей антропоморфной природы: в них угадываются фрагменты рук, ног, лиц, на которые распадаются человеческие тела, погребенные под массой «органической материи». В центре возникает, как бы высвечиваясь из темноты, странно двоящееся женское лицо. Исходя из круга мифических образов, присутствующих в других работах Филонова, можно предположить, что в сияющем лике воплотились: Мать-Земля как олицетворение естественного круговорота материи и Душа Мира, Вечная Женственность, чье явление пророчествует о неизбежном воскрешении всех ушедших поколений. И в других картинах Филонова она осеняла своим присутствием актуализацию судьбы человека — начало современного Апокалипсиса в «Головах», реализацию мировой истории в эсхатологическом цикле. В мистическом пиршестве «королей» она подсказывала вопрошающему герою выход из замкнутого цикла вечного возврата[50]. Соединение метафизического истолкования темы и подчеркнуто конкретного названия картины свидетельствует о том, что «германскую войну», прервавшую спокойное течение жизни, художник воспринял как катализатор, ускоряющий исторические процессы. В картине «Две девочки. (Белая картина)» (1915, ГРМ)[51] художник воссоздал финальную стадию «ввода в Мировый расцвет». Среди пронизанных светом частиц-монад возникают едва различимые силуэты людей, знаменуя завершившееся преображение индивидуума.
Революционные события стали для Филонова еще одним подтверждением, что предугаданные изменения мира становятся реальностью, что «весь человек пришел в движение, он проснулся от векового сна цивилизации; дух, душа и тело охвачены вихревым движением, в вихре революций духовных, политических, социальных, имеющих космические соответствия, формируется новый человек»[52]. Ныне главное место в искусстве мастера занимает цикл «формул», изображающих уже не «ввод», но сам «Мировый расцвет». В них путь от хаоса современности к грядущему уподобляется объективации «духа музыки», «из коего рождается всякое движение» и хранителем коего «оказывается та же стихия, <…> тот же народ»[53]. Чести быть переведенными на язык «формул» удостаиваются не только отвлеченные понятия (Космос, революция, вселенная и др.), но и явления современности. Так, в «Формуле петроградского пролетариата», круг за кругом поднимаясь от реальной жизни к мифу, Филонов исследует процесс преображения городской среды и ее обитателей. Если в графической композиции (1912–1913, ГРМ)[54] воссоздана социально заостренная картина жизни рабочих окраин, то в окончательном ее виде преображенное бытие класса-победителя спроецировано на универсум, так что хаотическое состояние «сферы» подчиняется гармонии геометризированных форм, повторяющих, по сути, «Формулу Вселенной» (1920–1928, ГРМ).