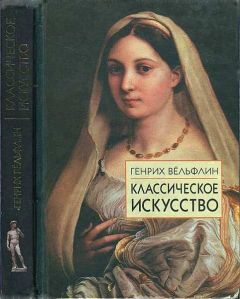Джотто изображает одни только размытые тени, резкие же по большей части совершенно не принимает во внимание. Не то, чтобы он их не замечал: просто углубление в них представлялось ему излишним. Он воспринимал их в изображении как вносящую беспорядок случайность, нисколько не служащую уяснению предмета. У Мазаччо свет и тень становятся моментами первоочередного значения. Для него важно отразить «бытие», телесность во всей силе их естественного воздействия. Решающим моментом оказывается не его ощущение тела и объема, не мощь плеч или плотность толп: он производит совершенно небывалое впечатление, изображая просто голову, наделенную парой весомых формообразующих черт. Объем заявляет у него о себе с небывалой силой. То же касается любого другого образа Мазаччо. Вполне естественной была поэтому замена светлых тонов старинных картин с их призрачными видениями на более «телесный» колорит.
Все изображенное на картине приобретает основательность, и потому прав Вазари, который сказал, что у Мазаччо люди впервые прочно встали на ноги.
Сюда же добавляется и нечто иное, а именно обостренное чувство личностного, индивидуально-особенного. У Джотто фигуры также отличаются друг от друга, однако это лишь общие различия; у Мазаччо же мы видим в них с полной отчетливостью обрисованные характеры. О новой эпохе принято говорить как о столетии «реализма». Правда, слово это побывало в стольких руках, что никакого незамутненного смысла в нем не осталось. К нему пристало нечто пролетарское, отголосок ожесточенной оппозиции, в которой нам навязывается звероподобное уродство, требующее себе прав просто потому, что оно также существует на свете. Однако реализм кватроченто по сути своей радостен. Привнося сюда также и новые моменты, он придает всему повышенную ценность. Теперь внимание привлекают не только характерные лица: до царства достойного изображения возвышается здесь вся полнота индивидуального поведения и движения, художники покоряются воле всякого материала и мирятся с его причудами, испытывая от непокорства линии радость. Возникает впечатление, что прежние формулы красоты совершали насилие над природой; размашистые жесты, богатые модуляции драпировок воспринимаются теперь лишь как красивые фразы, набившие всем оскомину. Возникает настоятельная потребность в действительности, и если вообще мыслимо доказательство чистоты веры в ценность постигнутой заново зримости, его следует усматривать в том, что только здесь даже небесное вполне достоверно подается в земном обличье, наделенным индивидуальными чертами и без какого-либо следа идеальности в том, как это изображено.
Однако художником, в котором новый дух заявил о себе с наибольшей многосторонностью, оказался скульптор, а не живописец. Если Мазаччо умер совсем юным и мог выражать себя на протяжении лишь очень короткого времени, то жизнь Донателло вольготно простирается на всю первую половину XV в., его работы образуют длительные серии, да и вообще, пожалуй, это наиболее значительная личность кватроченто. Он берется за выполнение задач, поставленных эпохой, так энергично, что никто к нему даже не приближается, и в то же время он никогда не впадает в односторонность необузданного реализма. Донателло — творец человеческих образов, который неотступно — до последних бездн уродства — следует за характерной формой, а после вновь — в чистоте и умиротворенности — создает образ спокойной и величавой чарующей красоты. Им созданы образы, до дна исчерпывающие все содержание характерной индивидуальности, а рядом с ними возникает такая фигура, как бронзовый «Давид» (Национальный музей, Флоренция] (рис. 2), где свойственное высокому Возрождению чувство прекрасного уже заявляет о себе полным и чистым голосом. И всегда он — рассказчик, непревзойденный по живости и силе драматического эффекта. Такая композиция, как рельеф «Пир Ирода» в Сиене, [Баптистерий] вполне может быть названа лучшим повествованием столетия. Позже, в сценах чудес св. Антония [в церкви Сант Антонио] в Падуе, вводя в композицию возбужденную толпу, которая выглядит замечательным анахронизмом на фоне выстроенных невозмутимыми рядами групп окружения с картин его современников, Донателло берется за разрешение проблем уже самого чинквеченто.
Парой Донателло во второй половине кватроченто является Вероккьо (1435–1488), несравнимый с ним по масштабу индивидуальности, однако вполне отчетливо выражающий новые идеалы нового поколения.
Начиная с середины столетия ощущается растущая тяга к изящному, тонкому, элегантному. Фигуры расстаются с грубоватостью, становятся стройнее, обретают тонкие члены. Мощная и простая линия растворяется в мелком, куда более изящном ее ведении. Точная передача светотени ласкает глаз. Поверхность воспринимается со всеми своими мельчайшими выступами и выемками. Вместо спокойного и законченного взгляд направляется на подвижное, напряженное, кисти рук раскрываются с сознательной грацией, мы видим многообразные повороты и наклоны голов, много улыбок и обращенных вверх проникновенных взглядов. Получает распространение изысканность, и рядом с ней прежняя естественность восприятия не всегда способна сохранить за собой место.
Противоположность эта ясно выявляется уже при сравнении бронзового «Давида» Вероккьо [Национальный музей, Флоренция] (рис. 3) с такой же статуей Донателло. Из крепкого юноши Давид превратился в мальчика с изящными руками и ногами, совсем еще тощего, так что просматриваются многие детали фигуры, с острым локтем, который, как и вся упертая в бок рука, совершенно сознательно использован в основном силуэте[6]. Во всех членах заметно напряжение: отставленная нога, распрямленное колено, застывшая рука с мечом — как сильно все это контрастирует со спокойствием, которым веет от фигуры Донателло. Вся композиция рассчитана на впечатление от движения. Но динамика требуется теперь и от выражения лица: по лицу молодого победителя проскальзывает усмешка. Нацеленный на изящество вкус находит удовлетворение в деталировке вооружения, плавно подхватывающего линии тела и их прерывающего, а если рассматривать лепку обнаженного тела, работающий обобщенно Донателло представляется едва ли не бессодержательным в сравнении с богатством форм у Вероккьо.
2. Донателло. Давид. Флоренция. Национальный музей 3. Вероккьо. Давид. Флоренция. Национальный музейТу же картину мы обнаруживаем при сравнении двух конных фигур — Гаттамелаты в Падуе и Коллеони в Венеции. У Вероккьо все туго затянуто — как посадка всадника, так и поступь коня. Его Коллеони едет с совершенно застывшими ногами, конь же устремляется вперед, создавая впечатление тяги. То, как держит рука командирский жезл, как повернута голова, отвечает тому же вкусу. Донателло выглядит рядом бесконечно упрощенным и непритязательным. Опять-таки он оставляет большие поверхности лишенными каких-либо разбиений, гладкими, в то время как Вероккьо разбивает их и скрупулезно детализирует. Конская сбруя опять-таки призвана уменьшать поверхности. Как оружие, так и трактовка гривы являют собой чрезвычайно поучительный образец декоративного искусства позднего кватроченто. Что до разработки мускулатуры, то здесь художник пошел так далеко, что в скором времени господствующим стало мнение, что Вероккьо изобразил лошадь с содранной шкурой[7]. Отсюда, разумеется, рукой подать до опасности погрязнуть в мелочах.
Вероккьо более всего прославился работами в бронзе. Как раз тогда художники принялись разрабатывать преимущества, которыми обладает этот материал: основное внимание было направлено на то, чтобы разбить объемы, разъединить фигуры и тонко проработать их силуэт. Бронза красива также с живописной точки зрения, и красоту эту признавали и использовали. В буйном богатстве складок одежд группы «Неверие Фомы» во [флорентийской] Ор Сан Микеле, помимо впечатления от собственно линий, ставка делается уже и на воздействие сверкающих бликов, темных теней и мерцающих отражений.
Но кому запросы нового вкуса оказались в полной мере на руку, так это художникам, работавшим в мраморе. Глаз сделался восприимчив к тончайшей нюансировке. Камень обрабатывают с неслыханной прежде утонченностью. Дезидерио [да Сеттиньяно] высекает свои изысканные фруктовые гирлянды, а бюсты молодых флорентиек его работы представляют нам жизнь ее улыбчивой стороной. Антонио Росселино и отличавшийся несколько большей широтой Бенедетто да Майано соревнуются в богатстве выразительных средств с живописью. Теперь резец в состоянии передать как мяконькое тельце ребенка, так и тонкий головной платочек. А приглядишься попристальнее — увидишь, что конец ткани кое-где приподнят порывом воздуха, так что складки игриво завихрились. Посредством архитектурной и пейзажной перспективы фон рельефа углубляется, и совершенно очевидно, что разработка всех поверхностей принимает в расчет живой эффект дрожаний и мерцаний (рис. 4).