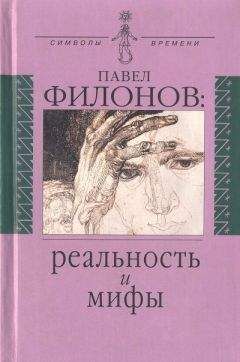В 1920-е годы родился еще один из филоновских мифов, напрямую связанный с педагогической деятельностью: миф о музее, где бы в более широком масштабе реализовалась программа перевоспитания современников. И вновь его оформлению содействовало окружение Филонова и более поздняя критика. Долгое время из публикации в публикацию переходила легенда о том, будто художник никогда не продавал своих работ, сохраняя собственное наследие для будущего музея и настаивая на таком же отношении учеников к своему творчеству. В устав коллектива МАИ он даже включил положение о том, что ученики не должны самостоятельно распоряжаться своими работами, которые могут потребоваться для музея. На самом же деле достаточно сопоставить факты, чтобы понять, что замысел художника, ставший для него руководством к действию, родился почти одновременно с образованием группы учеников, то есть не ранее середины 1920-х годов. В предшествующие же годы он и продавал работы[83], и дарил их государству, ратуя вместе с другими мастерами авангарда за создание музея новой живописной культуры, который соединил бы в себе функции хранилища произведений искусства и научно-исследовательского центра. Это подтверждается[84] и протоколами закупочных комиссий, и свидетельствами Е. Н. Глебовой: «В 1919 г. им был продан ряд картин в отдел Изо и принесены в дар Пролетариату через отдел Изо две картины: „Мать“ и „Победитель города“»[85]. «В 1922–1923 годах он снова подарил петроградскому пролетариату две картины: „Формула периода 1905–1921 годов, или Вселенский сдвиг через русскую революцию в Мировый расцвет“ и „Формула Петроградского пролетариата“»[86]. Что же касается работ, попавших в государственные фонды, то их судьба оказалась незавидной. Как Филонов записал в «Автобиографии»: «До 1927 года …картины стояли в Музее Революции лицом к стене»[87].
Ясно осознавая, что организация музея аналитического искусства — дело далекого будущего, особые надежды Филонов возлагал на выставку своих произведений в Русском музее. Он хотел превратить ее в пробную версию музея. Выставка не состоялась, похоронив надежды художника на то, что его творчество будет предъявлено людям и востребовано ими. Очень показательна «дуэль» между авторами вступительных статей к каталогу несостоявшейся выставки. В. Н. Аникиева с искренним сочувствием изложила теоретические постулаты Филонова, широко цитируя тексты теоретических выступлений и автобиографии. С. К. Исаков, еще недавно подвергавшийся критике за поддержку формализма, проанализировал искусство мастера с точки зрения победившей идеологии. Вывод его гласил: позиция Филонова, убежденного в пролетарской природе своего искусства, — «индивидуалистическая, типичная для мелкого буржуа»[88].
Еще более горьким ударом для Филонова стал распад коллектива МАИ, по времени совпавший с событиями в Русском музее. Драматизм ситуации состоял в том, что, в сущности, такой финал объединения был неизбежен. И то, что поводом для ухода большинства мастеров МАИ стали столь незначительные разногласия, как членство в нем Ю. Г. Капитановой, подтверждает непрочность уз, связавших наставника с учениками и изначально казавшихся нерасторжимыми. Одной из важнейших причин было то, что молодежь, которую Филонов пытался увлечь собственными мечтами о светлом грядущем, осталась глуха и слепа к его проповеди. Нашлись среди них и такие, кто оставил коллектив МАИ с убеждением, будто сумел-таки превзойти «старикашку», «выжившего из ума со своим мировым расцветом»[89]. Для того, чтобы понять искусство Павла Николаевича, им попросту не хватало элементарных знаний литературы и философии. И даже когда обладающий незаурядной эрудицией О. В. Покровский искренне попытался разгадать, о чем повествуют странные и притягательные полотна наставника, ему это не вполне удалось. Он принадлежал к иному поколению для которого на смену В. С. Соловьеву, Н. Ф. Федорову, поэтам-теургам пришли З. Фрейд, А. Адлер, О. Шпенглер, весьма далекие от идеализма мастеров раннего авангарда. И потому, даже руководствуясь искренним желанием понять и объяснить смыслы работ Филонова, Покровский по существу озвучил собственные импровизации, навеянные ими, как это происходило десятилетиями раньше с Хлебниковым, описавшим «Пир королей». Но оговоримся: в принципе это не противоречило внутренней установке Филонова — своими произведениями вовлекать зрителя в диалог, заставлять его выстраивать собственные логические цепочки. Постепенное прочтение картин должно было стать средством воспитания способности аналитического мышления, важного не только для творца, но и для реципиента.
Все это позволяет говорить о трагическом одиночестве мастера даже среди, казалось бы, близких ему людей. Не потому ли горький пессимизм пронизывает его «Тайную вечерю» (1920-е, ГРМ). Она часто истолковывается как недвусмысленное подтверждение того, что под давлением новой идеологии Филонов отрекся от былой и якобы истовой религиозности[90]. Но художник вполне серьезен в изображении фигуры Спасителя и ближайших к нему апостолов. Лишь по мере удаления от Христа становится все более откровенным со-присутствие учеников, но не со-причастие их происходящему. Окончательный отход от учителя демонстрирует Иуда в костюме типичного нэпмана с книгой «Подарок молодой хозяйке» в руках. И в памяти возникает Ф. М. Достоевский с его «Легендой о Великом Инквизиторе». Мессия явился миру, но не был понят теми, кто, казалось бы, призван действовать во славу его. Земные, узкие заботы мешают людям поверить в Учителя, несущего свет истины. И нет ли в акварели признания, что как «несвоевременным» было признано явление Мессии, так невостребованными оказалось и мечты автора акварели, и его высокий идеализм?[91]
В последние годы, по словам Покровского, «Павел Николаевич никогда ничего не говорил о темах своих картин. Все вопросы отклонялись учтиво, но сухо. Может быть, давно, в годы расцвета школы, в двадцатые годы — было иначе, но показы, на которых присутствовали люди… [молодого. — Л.П.] поколения, проходили молча»[92]. Из названий картин последовательно вытравливались малейшие намеки на идеи теургов, что вряд ли стоит расценивать как проявление сервилизма. Филонов наделял произведения способностью жить и развиваться в ногу с эпохой, в какой-то момент они для него перерастали свое первоначальное содержание, смещались в иной смысловой пласт. Идеология новой эпохи воспринималась им как развитие его собственной концепции мирового расцвета. В дневниках не сохранилось ни единой строчки, где он подвергал бы сомнению правильность репрессий, которые в той или иной форме касались его и друзей — они также служили «очищению человека и общества». Он уверял пострадавших от обысков и арестов, что все правильно, что внимание ОГПУ приближает победу аналитического искусства, бесстрашно обменивался письмами со ссыльными, встречался с теми, кто возвращался из тюрем. Когда репрессии обрушились на самых близких ему людей и он, скорее всего, смог-таки понять свои заблуждения, то просто перестал вести дневник. Так исчезал, стирался миф, ради реализации которого художник терпел лишения. Уходили глубинные смыслы произведений, утрачивалось осознание их тесной связи с современной культурой. Но с фанатическим упорством художник продолжал разрабатывать новые грани мифа, изменившегося, утратившего не только победительный характер, но даже название — оно не упоминается ни в названиях работ, ни в дневниковых записях. Но в «Налетах», в поздних «Головах» читается убеждение, что «расцвет» возможен, что его время близится. Филонов не отрекался от своей изначальной веры, и в последней картине изобразил людей, которые «смотрят в будущее, некоторые его уже видят»[93]. И лишь поздние трагические «Лики» (1940, ГРМ), где беспредметная сетка элементарных частиц опутывает подобно паутине лица индивидуумов, показывает, сколь драматично было в эти годы мировосприятие мастера.
Начало Отечественной войны и блокады Филонов встретил «на боевом посту» как воин, уверенный, что ночные дежурства помогут спасти дело всей его жизни — произведения, превратившиеся в завещание грядущим поколениям. Еще больше, чем раньше, в нем выявлялось сходство с Дон Кихотом, а искусство, начавшееся с создания мифа, само становилось мифом. После смерти автора его имя было на долгие годы вычеркнуто из истории, о нем, казалось бы, забыли, и лишь изредка в мемуарной литературе оно возникало из небытия как призрак. Зрители вновь смогли увидеть произведения мастера лишь через полвека после его смерти в осажденном Ленинграде, но они так и остались загадкой, которая все еще нуждается в прочтении[94]. Помочь в этом могут в первую очередь очевидцы жизни и творчества Филонова, но собрать в одном издании их воспоминания не представляется возможным. Для настоящего сборника отобраны монографические тексты современников, посвященные Филонову, а также фрагменты мемуаров, где упоминаются эпизоды из его жизни. Существенным дополнением к ним послужат выдержки из статей современных художественных критиков. Личность художника-рыцаря, снявшего латы, предстает в его письмах жене. Очень краткие, они мало говорят о творчестве мастера, но позволяют различить глубоко человечные черты натуры Павла Николаевича, во многих выступлениях предстающего прямолинейным фанатиком. Хочется верить, что собранные под единой обложкой тексты, авторы которых порой вступают в заочный спор друг с другом, позволят понять, кем же был на самом деле самый странный представитель российского авангарда. Орфография и синтаксис в большинстве случаев сохранены авторские, и лишь в редких случаях они приведены в соответствие с современными правилами правописания.