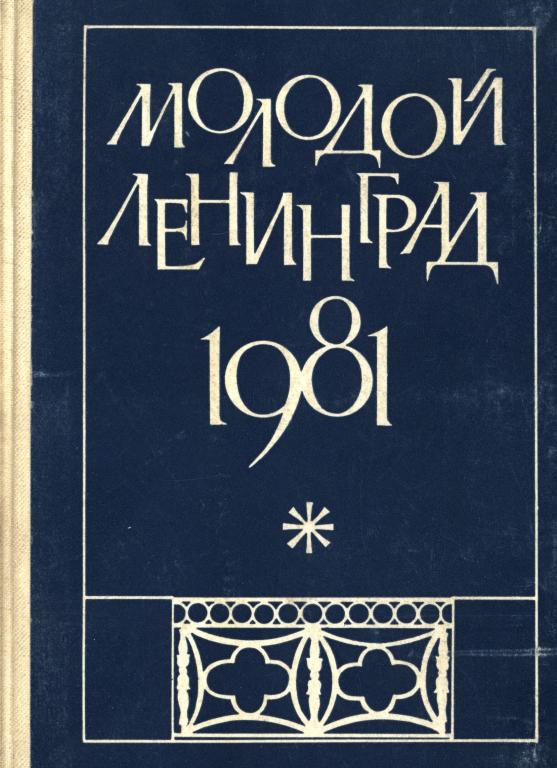технического творчества усугубляется самой его природой, той самой малопонятностью и труднодоступностью. Ученый, инженер оставляет лишь продукт умственной деятельности, ценность которого определяется категориями нужности, полезности. Все «косматые страдания», вложенные в его творение, остаются тайной за семью печатями, теми сокровенными четырьмя пятыми, которые лежат вне предела видимости и о которых никто никому не рассказывает.
В понедельник, как обычно в начале девятого, Николай Николаевич Тиходеев вышел из дому. На улице одуряюще пахло весной. В стоячей голубизне луж отражались темные ветки деревьев. Солнце стекало с сосулек тяжелыми сияющими каплями.
Николай Николаевич шел на работу со странным чувством освобождения, радости — и пустоты. Освобождения — потому, что в лаборатории наконец закончили новую разработку, и эта разработка решила отчасти судьбу уникальной Саяно-Шушенской ГЭС; радости — потому, что новые ограничители оказались и новым словом в технике (проект выдвинули на соискание Государственной премии, Тиходеева наградили орденом «Знак Почета»); пустоты… пустоты — потому, что все это кончилось. Отошел в прошлое еще один значительный кусок жизни.
Вчера дома устроили маленькое торжество по этому поводу. Собрались самые близкие друзья, в основном такие же одержимые наукой люди, как и сам Тиходеев. После первых тостов, поздравлений разговор как-то сам собой перескочил на электроэнергетику, и жены тщетно пытались вернуть его в русло общежитейских проблем. Мысль упорно, в тысячный раз возвращалась к проекту, к их общему детищу, как будто была к нему прикована. Весь внутренний строй и ритм был еще подчинен заботам этого тяжкого и счастливого времени, плотно напрессованного работой. У Николая Николаевича было ощущение, что в его жизни произошло событие, и теперь, когда все позади — стало сиротливо. Вчера вечером, оставшись один, он почувствовал эту опустошенность.
Тиходеев ускорил шаги и заставил себя перестроиться на привычное рабочее состояние. В лаборатории его ждали новые дела, новые темы, новые проекты. Надо смотреть вперед. А пока что впереди — рабочая неделя. Всего лишь семь коротеньких дней, за которые надо столько успеть.
БРАТСТВО
В этой рубрике представлены молодые поэты Дрездена — города-побратима Ленинграда. Появление новых имен наших немецких друзей на страницах альманаха стало уже доброй традицией. Переводы выполнены молодыми ленинградцами: Осипом Спасовым — стихотворений Манфреда Штройбеля, Владимиром Фадеевым — стихотворений Готфрида Юргаса, Каритаса Бёттриха и Инге Хандшик.
Развалины. Река из слез и крови.
Гора волос…
Весь этот ужас выразишь ли в слове.
О, сколько боли страшный век принес!
Ребячьи башмачки. Очки ученых.
Какая тяжесть! Тяжело дышать.
Забудьте свет ромашек золоченых.
Здесь — боль в глазах детишек обреченных.
И снег. И горизонта не видать:
стена чернеет, вся от пуль щербата.
Чернеет печь. Шуршание золы.
Последний взгляд сквозь камни каземата.
Как монумент. Как вечная расплата.
Мильоны жертв. Трагедия земли.
Вот инструменты — пыток диадема.
Ворота смерти на ветру скрипят.
Они вещают всем, хотя и немы,
как победил я варварство и феме [1],
я — человек — встал с человеком в ряд.
Но бывших тюрем серые анналы —
тяжелый груз.
Здесь вешали. И здесь маршировали
в жестоком и безмозглом ритуале
с арийским «гот мит унс» [2].
Убит. Замучен. Выброшен собакам.
Дым на ветру… Но воскресает вновь
кровинкой каждою и каждым знаком
в сынах своих, в сынах своих сынов —
погибший человек. И снова в красках
сверкающих земля — салют любви!
И жаворонки гнезда свили в касках,
и жажда счастья — жажда всех несчастных —
гудит в моей крови.
Стихотворение написано по мотивам творчества немецкого поэта начала века Георга Хейма, предсказавшего и описавшего в своих стихах фашизм.
Они своих забыли матерей,
едва вспорхнув с филистерских оконцев.
Вспороли плавниками гладь морей.
Закрыли небо — орды дикарей.
И, злобно воя, погасили солнце.
Жечь города — им по сердцу приказ,
они вонзили зубы в горла храмов.
Творенья истерзав, войдя в экстаз,
лакали горе из прекрасных глаз
с усердием в броню одетых хамов.
Истошным криком воздух искромсав
сраженных ими птиц голубокрылых,
зеленые дубравы растоптав,
они лежат, от бешенства устав,
на трупах городов, словно в могилах.
Убили женщин. Сеют грабежи.
Детей головки нижут в ожерелья.
И даже тех, кто стал подобен вши,
проткнули их блестящие ножи,
клевреты черной славы и веселья.
О матери, родившие убийц,
на гибнущей земле вы так нелепы.
Кричите же сынов! Падите ниц!
Сдерите в скорби кожу с белых лиц!
Возьмите ваших гадов. В ваши склепы.
ОТЕЦ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 1933 ГОД
Очень стройный, в бородке бравада —
учитель начальных наук,
сидит он, пастух, среди стада
(они копошатся вокруг
с невинностью лиц — лицедейство),
любовью глаза осветив,
отец мой, открытый и честный,
спокойно глядит в объектив.
Рисунков смешных налепили
на стену… Юлить не привык,
он знает, что к общей могиле
лежит его путь напрямик.
К чему тогда доблесть и рвенье?
Но суть — не геройство, а прок, —
чтоб в людях цвело среди скверны
волшебное слово: добро!
Труда не жалел и таланта.
О, стадо смиренных овец, —
фюреру и фатерланду
иудами выдан отец:
пьянила их кровь, как сивуха,
царили холуй и подлец.
Каменьев бы в хищное брюхо!
…Спастись еще можно, отец.
…Спасение: гордость и милость…
А паства, доселе тиха,
уж в свору собак превратилась.
И завтра порвет пастуха.
Я тот, кто мощных мышц шары
трудил для дела, други!
Лицо сурово от жары.
В муке обмякли руки.
Я тот, кто ржой дышал вчера.
Я — в праздничных колоннах —
танцую и ору «ура!»
на улицах знаменных.