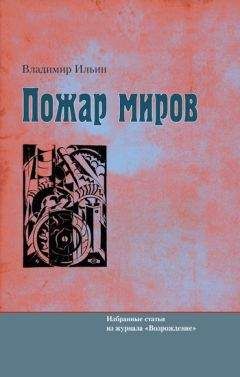«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним» (Откр. 6, 8).
Как тут не вспомнить об основной идее сократо-платонизма, что философия есть подготовка к смерти. Это – центральная идея знаменитого диалога «Федон», посвященного смерти и загробному пути души. Эту же тему в роскошной литературной форме и с грандиозным научным аппаратом разработал о. Павел Флоренский.
Как известно, Сократ и Платон были люди не только предельного философско-артистического гения, но еще и отличались необычайной атлетической крепостью и несокрушимым физическим здоровьем. К тому же оба весьма были наклонны к физическим наслаждениям жизнью, к выпивке например, и чрезвычайно влюбчивы. Обоим пришлось весьма упорно и мучительно бороться с этой стороной их психофизического устройства. Но, кажется, только одному Сократу удалось победоносно выйти из борьбы с требованиями его могучей плоти. Платону это не совсем удалось. Главным орудием в этой борьбе было то, что отцы именуют «памятью смертной». И что особенно характеризует еще их философский гений – это морально аскетическая установка, господствующая решительно повсюду. На службе у этой морально-аскетической установки стояли у Сократа и Платона две гигантских силы: логическое мышление и художественный гений.
Как тут не вспомнить о Сократе наших дней – о гениальном художнике и моралисте наших времен, о Льве Николаевиче Толстом?
Какая поразительная и многосторонняя аналогия!
Вместе с тем заостряется противостояние и одновременно внутренняя аналогия таких двух «художников этической проблемы», как Ницше и Толстой. Между ними, как между двумя жерновами, оказался измолот Владимир Соловьев с его очень хорошо и академически написанным и все же банальным «Оправданием добра».
Как решить эту труднейшую проблему тяжбы «толстовства» и «ницшеанства»? Есть ли между ними «третье данное» (terlftum datutr), с помощью которого можно было бы перевести язык одного мыслителя-художника на язык другого, ему диаметрально противоположного философа, наделенного блестящим литературным даром?
Такой «третий термин» есть. Он нами был уже упомянут: это – Константин Леонтьев. Всех троих – Толстого, Ницше и К. Леонтьева – объединяет могучее «буйволиное» начало жизни, жизнь как таковая со всеми ее жестокостями, неправдами, со всей ее чудовищной чувствительностью и первозданной красотой, еще нетронутой культурой и со всем ее трагизмом, в котором бурлят вечно юные, никогда не старящиеся и не могущие состариться стихийно-природные, « панические » силы. Эти силы можно наименовать языком блестящего Людвига Клагеса – «космогоническим» (миротворческим) эросом.
Но только все три совершенно по-разному реагируют и «проповедуют» по поводу этого первозданного чувства жизни и ее жестоких радостей, где нет ни добра, ни зла, но где цветет только могучее желание: хочу быть, наслаждаться и бороться со всем тем, что мне препятствует, хочу срывать с древа жизни его плоды и в случае нужды размозжу сопернику череп – прочь с дороги!
В молодости и в средний период, в общем же – всю свою жизнь (и это можно доказать), Лев Толстой был внутренне всем своим существом связан с этим «буйволиным» чувством жестокой и радостной чувственной жизни, как в плане личном, так и в плане государственном. Константин Леонтьев – тоже, так же, как и Ницше. Впрочем, к последнему эта жажда «буйволиной жизни» и преклонение перед ней пришли позже, после того, как он заболел безнадежно и после того, как выяснилось, что эти радости «злой жизни» (выражаясь по-тютчевски) не для него.
Ада мучительнее такого и придумать нельзя в самом ужасном бреду…
Лев Толстой был крепок как дуб – крепче огромного большинства окружавших его мужиков. И в землю врос, и в ней укоренился – тоже бесконечно глубже все тех же мужиков, которым он совершенно в славянофильском духе призывал подражать и поклоняться. Его расцвет, то есть период его жизни, когда впервые во всем блеске явлен был миру его ослепительный художественный гений, который, заметим в скобках, напрасно величают «реалистическим» и «отражательным», относится к эпохе написания кавказских военных рассказов («Набег», «Рубка леса», «Встреча в отряде с московским знакомым»). Все увенчивается «Казаками», где в лице Лукашки с его товарищами, красавицы-девки Марьянки, особенно дяди Ерошки, со всем их окружением, бытом и пейзажем, как раз и выведено то самое «буйволиное начало жизни», к которому стремится всем своим существом москвич, богатый юнкер Оленин, покидающий опостылевшую ему «культурную» обстановку и, так сказать, «с Руссо в душе» отправляющийся разыскивать людей, не испорченных культурой, вернее, цивилизацией.
При поверхностном чтении, при нежелании достаточно глубоко продумать прочитанное, может показаться, что Оленин – просто автопортрет Толстого, подобно тому как позже автопортретами будто бы явятся Пьер Безухов (из «Войны и мира»), Левин (из «Анны Карениной»), кн. Неклюдов (из «Воскресения») и проч. Но такое впечатление будет верным только отчасти; действительно, эти лица содержат в большой или, во всяком случае, в заметной степени черты главным образом духовного облика автора, их создавшего. Но во-первых, по собственному признанию Толстого, он пользуется во время творчества синтетическим методом – и из многих черт нескольких, иногда многих лиц, создает нечто вполне новое, хотя и похожее. Однако это не простая «смесь», но живой синтез, творческое перевоплощение, появление чего-то вполне нового. Кроме того, Толстой, подобно всем подлинно гениальным творческим натурам в искусстве, наделен был даром как бы выделять из себя, так сказать, «эктоплазмировать» совершенно иные, живые мыслеобразы, в которых содержится одновременно и миросозерцательная идея, и вполне живое существо, которое, что очень важно, имеет, имя. А это тоже в высшей степени знаменательно, ибо эти новые, рожденные, или «выделенные» всем существом автора мыслеобразы-типы вместе с полученными от автора именами, отделившись от автора, продолжают вести независимо от автора, давшего им жизнь, свою собственную, так сказать, линию, имеют собственную судьбу. И в этой судьбе автор волен очень мало или же вовсе не волен. Сам роман (рассказ или повесть) оказывается закругленным в себе миром – космосом с господствующей идеей и с множеством второстепенных, так сказать, контрапунктирующих лиц и идей. Некоторые лица-идеи могут в большей степени выражать существо их творца, некоторые в меньшей, некоторые как бы вовсе не имеют с автором ничего общего. Все это делает анализ подобного «космоса мыслеобразов», созданных большим мастером, делом очень трудным и ответственным, особенно когда речь идет о том, чтобы вскрыть в названном «космосе мыслеобразов» такие черты, которые прямо и непосредственно рисуют духовное существо автора.
В «Казаках» такая задача становится особенно привлекательной, но и особенно трудной ввиду непосредственной природной свежести этого удивительнного и не имеющего себе равного «космоса мыслеобразов» во всей мировой литературе. Здесь не только необъятные размеры вставшего во весь свой рост гения, здесь еще и русско-кавказская природа и крепость, биологическая несокрушимость старообрядчески-казацкой стихии. Эта стихия с какой-то поистине божественной чудесностью могла соединить элементы «чистоты церковного предания», его ревнивого блюдения, с широким разливом жизненных сил и с глубоко укорененным чувством того, что в плодах древа жизни, дарованного человеку Богом, не может быть ни отравы, ни греха. Глашатаем этих идей (если только эти примитивные высказывания можно назвать идеями) является дядя Ерошка, грандиознейший из всех образов, созданных Толстым, как бы олицетворение всей природной стихии и в то же время глубоко человечный образ, и, что самое замечательное, нисколько не дикарь (в одиозном смысле слова). Скорее – обратное: представитель своеобразной, красочной культуры и целостного Миросозерцания.
«Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистою бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была как у быка покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставив его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю (красное кавказское вино, крепкое и душистое. –
В. И.), водки, пороху и запекшейся крови.