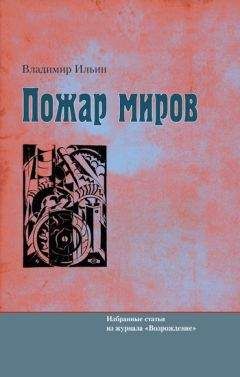ЭЛОА
В тот миг, как увидала я свет Божий,
Скатилась я на саван гробовой;
Светил мне в сердце светоч погребальный,
И звук рыданья был мне пеленой!
С тех самых пор неясное влеченье
Меня манит к тоскующей земле, —
И ты, князь мрака, мне совсем не страшен,
Я родилась в тоске души; во мгле…
САТАНА
Прелестнейшая речь в устах прелестных,
И, слушай я ее, – добрее б стал!
Что ты меня не избегала – знаю…
Но не подослана ль ко мне, – скажи?
Полная несоизмеримость, «несовместность», как говорят логики, этого диалога вопиет к небу – и, конечно, находит там свой справедливый суд. Но и человеческому суду здесь не так уж трудно разобраться… На этот клубок иронии и цинизма Элоа отвечает так, как будто бы она и не поняла, в чем здесь дело, – отвечает чистой, открытой речью, исповедуя свою полную свободу царю тюремщиков и рабовладельцев, который сам – раб собственного греха:
Нет! Мне пути никто не указует,
К тебе сама я избрала свой путь,
Я вольной волей встретиться хотела,
И встречу вновь тебя когда-нибудь.
Ответ все тот же: ирония, насмешка, цинизм – и гордыня, самолюбование своим грехом, кажущейся свободой и фактическим рабством. Но когда он говорит о своем непонимании порыва Элоа снять с него цепи греха, которыми он себя сковал, Сатана говорит правду, хотя думает, что и здесь лжет. Он действительно ничего не понимает, ибо не имеет живого источника всякого подлинного понимания и всякого подлинного знания – любви, жертвенной готовности, – чем объята Элоа…
Я твоего желанья не пойму!
……………………………………..
Поступок твой безумно смел, Элоа!
Все это совершается в потусторонних планах бытия. Но в них клевета, злоба и насмешки с ложью пополам звучат особенно отчетливо и недвусмысленно:
Придется отвечать эпитимьею…
Уж там, клянусь, известна встреча наша!
Нетопыри и совы полетели
С доносами! Поверь, мне жаль тебя!
Мой однолеток, Бог…
Великолепно царственна и умна по-настоящему реплика Элоа, которою властно обрывается нечестье изобретателя нечестья:
Остановись!
Мне жаль тебя, – ты, кажется, сказал?
Ты хорошо сказал и помни…
(Исчезает)
Это – голос и приговор суда праведного: у Элоа – одни права и одна функция с архангелом Михаилом, он ей «сродни»… и она ему! Или у этой силы – два лика – мужской и женский: десница и шуйца Божией власти и Божьего послушания?
Не меч архангела, но исчезновение Элоа – вот что убийственно для Сатаны, в котором начинает разгораться огонь нечестивой страсти, не по адресу направленной. Это первое предупреждение для него. Далее последует и окончательный суд… Что еще далее, от нас скрыто в необозримом ряду эонов, которые все в руке Божией и в руке тех, кому Он восхочет поручить это дело Его промысла. Ибо сказано:
«Добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего!»
Так или иначе, но Элоа судит Сатану «его же словами» – как об этом и говорится в Слове Божием. И Сатана не достоин видеть в мгновение суда не то что
верховного Судию, но и глашатая Его и оруженосца… И казнь начинается… Казнимым овладевает растерянность и недоумение… в первый раз он лишается самоуверенности:
Где ты?
Но нет ее! Лишь эхо раскатилось,
И дряблые тела комет бродячих
Испуганно попрятались в пространства.
Все спуталось в померкшем духе Сатаны, жившем искаженными отблесками своего и своих братьев ангельства. Ему хочется сказать нечто о своей тоске по Элоа, той тоске, которая так характерна для любви и которой он мог бы спастись… Но он не созрел для нее и продолжает лгать – перед собой и перед Богом.
Она права: я пожалел ее!
Исчезла, как и я могу исчезнуть!
Мне не найти ее… Не хватит сил!
Сатана, глядя ей вслед, заволакивается туманом.
Здесь Случевский (как и Достоевский в «Бесах» в лице сатано-подобного Николая Ставрогина) открывает главное в трагедии Сатаны: его финальное бессилие и вообще «демонов немощные дерзости»… Ибо подлинные силы черпаются у всемогущего Отца-Светоподателя («Азура-Дьяус-Питар», в древнеиндусских текстах эпохи единобожия).
Откуда берется Богом морфология судеб Его творений? Предопределение? А ответственность и вменение? Нет… Здесь тоже антиномия свободы и необходимости… Ответа нет.
Значит, прав – гносеологически – Кант в своей гениальной, как будто на все времена написанной «Трансцендентальной диалектике»?.. прав в том, что человеческое познание в своем стремлении – гениальном по существу – мыслить до конца упирается в стену великой, подлинной диалектики
«да» и «
нет », в великой четверице пар
предельных тем-вопросов, от которых и уйти нельзя, но которые и решить нельзя? Ибо диалектика – совсем не решение проблем, тем более предельных, но все новое и новое их возникновение в новом и неожиданном виде – и так
во веки веков, и здесь –
ад познанья и свободы? И здесь навеки обречен «царить» «печальный демон, дух изгнанья» – дух, гносеологическими происками которого изгнана первозданная мужеженская чета, изгнана в «мир печали и слез»?.. И лучше было бы не поднимать так называемых вопросов, а вместе с Тем, в руках Которого одно великое «ДА!», идти путями «
творящего познания»? И может быть, скорбь Элоа от того, что человек
Но чувство презрев, он доверил уму,
Вдался в суету изысканий…
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.
…Яркий, солнечный день. Монастырь в развалинах. Заброшенное кладбище. Элоа бродит между могил.
На этом можно было бы остановиться – на предапокалиптической, Писаньем предсказанной «мерзости запустенья на святом месте»… Но есть нечто горшее. Неожиданно раздается звон колокола. Сатана входит в виде капуцина «с кропилом в руке». То, что далее следует, есть адская пародия на богослужение «умного и страшного духа», говорящего и действующего отнюдь не глупо и не бездарно, хотя он по безмерному лукавству своему и есть, в своем противлении Богу, главный покровитель, даже царь глупцов и бездарностей.
Но диалог Элоа и Сатаны, переодетого капуцином, то есть носящего маску церковности, маску совсем не поверхностную, ибо форма связана с сущностью и формой не шутят, – эонический диалог, сквозь который пробиваются нездешние, к диалогу не принадлежащие и совсем иные лучи грядущего апокатастасиса, ибо Бог всесилен.
Бог есть Любовь. А одно из основных свойств любви то, что она «все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (I Кор. 13, 7). Это К.К. Случевский с величавой простотой и прозорливостью мистика именует «решеньем задачи всех задач»:
Я дом воздвиг в стране бездомной,
Решил задачу всех задач, —
Пускай ко мне, в мой угол скромный,
Идут и жертва и палач…
Я вижу, знаю, постигаю,
Что все должны быть прощены,
Я добр – умом, я утешаю
Тем, что в бессильи все равны.
Это та самая, сострадающая всему и все милующая любовь, что столь дорога сердцу Достоевского. Она так сближает и роднит автора «Элоа» с автором «Преступления и наказания»…
«Задача всех задач» действительно нечеловечески трудна – и в своем универсальном и вполне обобщенном виде подвластна лишь Богу-Любви… В силу ли неизлечимого духовного вывиха, или движимый неисцелимой и неутомимой злобой, но Сатана у Случевского как будто не знает или знать не хочет иного символа любви, кроме того, который загрязнен, затаскан, испошлен, оглупен – до невозможности произносить слово «любовь».
«Не видя больше Элоа», Сатана быстро поднимается с удивительно метко характеризующими его природу словами:
Так значит, одному из нас не удалось?!
Ехидна дерзкая! Ты хитростно скользнула,
Впилась, проклятая, в больное сердце мне…
Я правду видел в лжи! Тут правда – обманула!
Бесполых жриц, как ты, – не нужно Сатане!
Как это с ним неоднократно – и уж не столь редко – бывало, и в малом, и в большом зле, Сатана проговаривается. И, соперничая с Богом, он «разгорается великим пламенем» – только не пламенем любви, но пламенем финальной ненависти и кощунственной пляской смерти.
Из слез Спаса Всемилостивейшего возник чистейший образ чистейшей и прекраснейшей печали, голубокрылая Элоа, «вечно женственный» образ софийной красоты… И если «князь мрака» увидел в Элоа пол, да еще в отношении которого мыслимы подходы «червей в сыре», то ясно, что до обращения, в которое верит и на которое надеется прекрасная Элоа и ради которого она собственной волей слетела «с небесных кругов», – его надо мыслить отстоящим на многие зоны, на вечности вечностей. Но перед лицом Божиим «тысяча лет как день вчерашний»… И пророческий взор «апостола языков» провидел тот великий день, космической, вселенской Пасхи, когда все же будет «уврачеван» сам изобретатель зла – ибо нет того, чего бы не преодолела сила Любви Божественной. Один из лучей этой любви пытался передать силой искусства слова великий русский артист. И труд его не остался втуне…