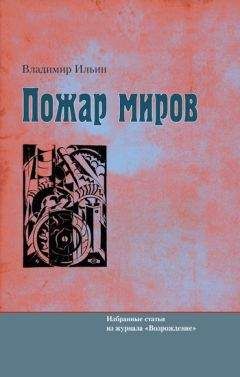В этом и финал земной трагедии Тамары в «Демоне» Лермонтова: она приняла слова и клятвы Демона, что называется, за чистую монету, как и тот, по-видимому, сам не знал, говорит ли правду или лжет, – и это уже по той причине, что он, потеряв, согласно А.К. Толстому в «Дон-Жуане»,
Архангельский мой вид, лишился вовсе виду
и может принимать какие угодно виды, в том числе и вид «ангела света»…
Тамару он мог еще обмануть – покуда она еще в этом земном теле с его греховными возможностями. Но совсем другое дело такое существо и с таким именем, как Элоа. Это не только прекраснейший вечно женственный лик, лик софийно-онтологической природы, но сама эта природа в облике софийно-женственной красоты, «чистотой запечатанной и девству храниму». У ней нет даже, так сказать, «органа», через который в нее могли бы проникнуть соблазнительные слова и картины, разворачиваемые перед нею Сатаной. Она никак и ни с какой стороны – интенсивной или экстенсивной – недоступна тем приражениям, о которых с такой силой говорит Лермонтов в финале своего «Демона». Тамара ни в какой степени не Элоа, и Элоа ни в какой степени не Тамара. Элоа не жертва, а защитница.
Все в Элоа Случевского происходит в обратном смысле и в обратном направлении лермонтовскому «Демону»: Сатана не выдерживает абсолютной чистоты, абсолютной красоты и абсолютной, апофатической неприступности персонально-софийной природы вечно женственного как такового – и сгорает в собственном пламени.
Из сравнительного анализа «Демона» и «Элоа» – оставив в стороне юношескую незрелость гениального дара Лермонтова и философско-метафизическую и богословскую зрелость Случевского – проступает возможность некоторого весьма важного заключения, которое можно сформулировать в двух тезисах:
1) Человеку как образу и подобию Божию, как образу Адама Небесного – Логоса дано необходимое для его спасения ведение о природе зла и о последних намерениях духа погибели, особенно с присоединением попущенного Богом опыта падения и зла.
2) Сатана в том, что доступно человеческой интуиции, не только пока что не раскаивается, но идет все далее и далее в своих дерзновениях, быть может совершенствуясь во зле, взирая на успехи в этом последнем тех, кого он соблазнил. В «Демоне» Лермонтова он простирает свои погибельные устремления на один из лучших образов человеческих, но все же только человеческих. В «Элоа» Случевского нам раскрыто тайновидением поэта-мыслителя, как эти дерзновения простираются гораздо далее. Но мы также и вполне определенно видим и знаем, что Бог поругаем не бывает.
В мистерии «Элоа» Случевского, как у Лермонтова в «Демоне» и у Алексея Толстого в «Дон-Жуане», все начинается с мучений памяти и припоминания, «как это случилось» и «как это могло случиться», то есть отпадение и падение Первого Ангела?..
Но с этим связано нечто гораздо более тягостное и для тварного ума недоступное и невыговариваемое: где добро и где зло? И есть ли между ними радикальное различие, обязательно приводящее к дуализму с его вековечной бессмыслицей и с чем-то таким, что хуже всякого атеизма?.. Именно вопрос: кто же творец? И в крайнем случае – не сотрудником ли Божиим придется назвать Сатану? И это опять все по тому же роковому вопросу: что такое красота и кому она принадлежит? В ее финальности, кажется, еще никто не сомневался… Только в чем она состоит?
Особенно непонятно и соблазнительно то, что красота обязательно сопутствует всякого рода катастрофам и крушениям, вообще всему ужасному.
Поэтому у Случевского Сатана не без некоторого как будто бы основания говорит:
Мое созданье – эта красота,
Всегда, везде присущая крушеньям!
А красота – добро! Я злобой добр…
А в этом двойственность… И ад, и небо
Идут неудержимо к разрушенью…
Тут выявляется ложь, составляющая вместе с клеветой «второе я» (alter ego) Сатаны, как будто совершенно и навсегда затмившее его «первое и первозданное я». И ничего ему, кроме того, что от века сказано его Творцом и Господом, не сказать, – притом обязательно с искажением, поклепом и хулой – грубой или тонкой, иногда тончайшей и никому, кроме Бога, неведомой. Вот хотя бы на тему – « путем зерна », путем, который избрал Себе Творец, Господь и Спаситель:
Лежит зерно: ему судьба расти!
Из оболочки и из содержанья,
Как бы из двух всегда враждебных сил,
Просунется росток! Не то же ль тут?
Зерно – мы оба! Только в раздвоенье
И в искренней вражде различий наших
Играют жизнь и смерть! Живые дрожжи!..
Так же как Бог, Сатана хочет быть «по ту сторону добра и зла», скрывая от других, а может быть, и от себя (высшая степень лжи!), что он виновник разделения в созданном бытии, первоначально бывшем только жизнию-блаженством, раскола на добро и зло… С «тех пор» (если можно говорить здесь о поре, то есть о времени) и появился мнимый онтологический дуализм добра и зла и с ним дуализм в двух «способах» быть «по ту сторону добра и зла» и «парить над добром и злом»: способ любви божественной и способ ненавидящей и презирающей гордыни… В последней много красоты и блеска – что и говорить! Но это не вся красота и не весь блеск, а главное – не финальная красота и не финальный блеск… Но если так, то красота и блеск Сатаны – кажущиеся, призрачные. А бытие призрака – паразитарное… И в конце концов все же выходит по Достоевскому: приживальщик и лакей, множащий приживальщиков и лакеев – коллектив темных сил.
Коллектив, именно, – агрегат, но никогда не живое и не животворящее единосущее… Отсюда и лжедиалектика кошмара никогда не прекращающейся, дурно-бесконечной борьбы, а следовательно, и ненависти, в удушающей атмосфере которой, как в атмосфере «второй смерти», Сатана хотел бы утопить и убить и себя, и Бога, ибо есть человек в Боге – основание Бога в человеке, а Сатана сам поставил роковое условие: та сторона выиграет «последний решительный бой», на которой будет человек. Он или «забыл», или знать не хочет, что падшей частью человечества он овладел не через правду, а через ложь и клевету – его «правду», и это – не истинное, но призрачное человечество, как и зло призрачно. Истинное же человечество – в Богочеловечестве. Этим начисто устраняется его как будто бы блестящий и умный – «диалектический» – аргумент:
Но эта рознь в уступках обоюдных
Утрачивает смысл давным-давно!
Зло от добра порой неотличимо;
В их общей вялости белеет мир…
Помимо лжи и клеветы, третье оружие Сатаны это – недоговаривание… Отсюда его лютейшая ненависть к договаривающим – ибо сущность подлинной гениальности, умной духовности – договаривание до конца, чего бы это ни стоило, – до Креста Сына Человеческого включительно, Который и есть истинный критерий добра и зла, познания и заблуждения, красоты и уродства…
И, кажется, по одному пункту Сатана вынужден сказать правду, именно ту, что он сбился с пути подлинных критериев, которые в руке Божьей.
И сам я сбился и не отличаю,
Что Божье, что мое? Не отличаю
Того, что было вправду, что случилось,
От смутной грезы духа моего!
Поэтому словно пьяный или одержимый бредовым безумием Сатана вращается, как в колесе, в лжедиалектике самоотрицаний и утверждений того, что его отрицает, и вновь, и вновь лжет, – он, «Хлестаков, залетевший в надзвездное пространство», – и все мельчает, мельчает, доходя до стадии красной карликовой звезды, хотя ему и суждено вспыхнуть в последний раз одиноким и последним блеском, перед тем как окончательно сгореть от безнадежной лжелюбви – вожделения к вечно женственному софийному и вечно чистому, – хотя выражение «от безнадежной любви» надо понимать совсем не в том смысле, как это понимают глупцы-пошляки, которых Сатана наплодил.
…И все вновь и вновь впадают в жесточайшие терзания невозможности в точности припомнить, как и когда это случилось?.. Это те самые мучения, которые уготованы в адской бездне тем, кто отпал от своего Творца, Отца и Спасителя. С ужасающей силой это передано Гоголем в кипяти адской бездны… У Случевского как будто спокойно… но какие возможности ужасающих взрывов безысходного отчаяния чувствуются в этом кажущемся мертвом покое!
Не может сгинуть зло: оно бессмертно!
Но в чистоте своей зло помутилось,
Густой настой добра в него спустился,
А зло, как поросль длинная трясины,
На стеблях бесконечных, проникает
В добро – и кажется порой добром…
(задумывается)
Как это было? Да… припоминаю…
Не совершились времена тогда…
Не то Сатане нужна творимая легенда творческой эволюции, а значит, время… не то при его содействии… до падения, или во время падения, или после падения зачалось время и смерть и история с их лютым убийственным бесчеловечием.