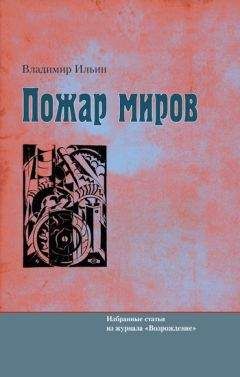Основная тема Толстого поистине ужасна. Это смерть во всей ее наготе и во всех ее терзаниях, которые никак и никогда не могут быть подвергнуты ни смягчению, ни умалению. И это обстоятельство делает «ересь Толстого» совершенно особым случаем. Тот, кто отнесется бездушно к этой страшной обреченности Толстого на эту ужасную тему, подвергнется зараз трем обвинениям: по легкомыслию, по окамененному нечувствию и по духовной бездарности.
По мере того как ужасы смерти все больше и больше будут овладевать творческим воображением Толстого, сближая его в этом отношении с Чайковским, все другие темы, которые окажутся побочными, или сопутствующими, будут тяготеть к этому центральному черному солнцу, от которого сами почернеют и уйдут в безнадежный туман и в мрак. Так, например, в «Анне Карениной» произойдет как бы возврат к законничеству Ветхого Завета, что сказывается уже и в выборе эпиграфа «Мне отмщение и Аз воздам». Согласно этому законническому принципу жена, взятая в прелюбодеянии, должна претерпеть казнь через побитие камнями. Толстой словно забывает евангельскую историю жены, взятой в прелюбодеянии и отпущенной Господом со словами: «…и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ио. 8, И). Но в XIX веке камнями не побивали, тем более за такой грех, который и грехом-то не почитался, а лишь светским неприличием (если только не был удачно скрыт). Толстой распорядился иначе. И свою Анну, которую любил искренне и хотел спасти, бросает под колеса поезда. Это уже возвращение не только к карающему закону возмездия, столь любезному Канту, но и прямо к древней трагедии Рока. Где нет Креста, там господствует Рок.
Рок – тема, удивительно удобная для музыкальной разработки. И Толстой, всегда бывший чрезвычайно чувствительным к музыке, потрясаемый трагической музой Чайковского, придал своему лучшему роману совершенно музыкальную структуру, с господством того, что получило специальное наименование «Монотематизма». Это – типичное создание музыки XIX века, изобретение чего принадлежит Францу Листу. Большинство крупных произведений Листа – монотематичны. Чайковский в своих трех последних симфониях и в своем «Трио на смерть великого артиста» тоже прибег к этому приему.
У Толстого монотемой является кошмар Анны Карениной, преследующей ее через весь роман. Это – склонившийся мужичок, работающий в железе и произносящий непонятные, но чрезвычайно страшно звучащие французские слова, в которых чувствуется грозный намек: «il faut le battre, le broyer, le pétrir» – «его нужно бить, нужно раздроблять, нужно месить». Лишь в конце романа-трагедии, при развязке, когда колеса поезда бьют, дробят и месят тело Анны, раскрывается, расшифровывается этот символ.
С точки зрения техники выполнения, совершенства ведения повествования, запутывания и распутывания «контрапунктического» сплетения жизненных путей многих лиц «Анна Каренина» представляет собою верх совершенства; и восторг Достоевского по ее поводу в его знаменитой статье вполне оправдан. К тому же надо прибавить, что для «мира, лежащего во зле» подобного рода трагические отображения даются гораздо легче и естественнее, чем так называемые «счастливые концы». Это только бессмысленным и бездарным авторам американских фильмов кажется, что счастливые концы легко конструировать. Наоборот, тот факт, что еще ни один счастливый конец не удался в литературе романов, показывает, что здесь мы сталкиваемся с непреодолеваемыми внутренними затруднениями. Паскаль, так любимый русскими, и особенно Толстым, в одном из своих блестящих афоризмов показал, почему это так:
«Конец всегда кровавый, – как бы ни было блестяще все остальное. И вот на голову сыпется земля – и навсегда».
Христианин только чает счастливого конца, и потому для него смерть, по выражению Ламартина, есть лишь первая торжественная нота для грандиозной потусторонней пьесы. Счастливый конец может быть только по ту сторону. Мы все же знаем – такова загробная судьба святых и праведников.
Надо быть справедливым: приближаясь к своему пределу, Толстой жадно стал устремлять свое взоры именно в эту область – и был награжден удачей своих последних произведений.
Большой роман был «измотан» и исчерпан. После «Войны и мира», «Анны Карениной», «Семейного счастья» и неудачного «Воскресения» (претенциозное название которого только подчеркивает неудачу, несмотря на множество восхитительных деталей) идти в этом направлении дальше было невозможно, – во всяком случае, для Толстого. Он и переходит к стилю более или менее мелких или среднего размера произведений, большей частью в народном духе и стиле, или же к театрально-драматическому жанру. Всюду его ждет полная литературная удача и успех. «Власть тьмы», эта вариация, как мы уже сказали, на «Преступление и наказание» Достоевского, несомненно произведение с «счастливым», в мистико-трансцендентном смысле, концом: дух тьмы побежден покаянием виновного и царство сатаны рассеяно добровольным восшествием преступника на крест Спасителя и рядом со Спасителем. Несмотря на мрачнейшее содержание и несносную фатальную тоску, которыми пропитан «Живой труп» (чего стоит одно название!), слушатель уходит из театра не только глубоко потрясенным, но еще и очищенным, ибо все здесь происходит действительно по Аристотелю – «через страх и сострадание идут к очищению от подобного рода страстей»; к тому же самоубийство Феди Каренина есть самоубийство только по форме, а не по содержанию. По содержанию же – это добровольное мученичество. Вообще «Живой труп» – одна из гениальнейших трагедий в мире, особенно если ее играть по-настоящему и умело провести все бытовые детали типично русского характера.
Но и дальше такие среднего или мелкого размера произведения, как «Хозяин и работник», «Корней Васильев», «Чем люди живы», «Три старца» и др., представляют в своем роде литературно-идеологическое совершенство. К тому же это настоящие произведения подлинно-христианского духа, и даже с проведением в них некоторых важнейших особенностей церковной догматики: например, учение об Ангелах в «Чем люди живы», учение о Пресвятой Троице и молитве в «Трех старцах», о мистическом значении прощения или непрощения обид – «Корней Васильев», о покаянии и о его положительном значении в загробной жизни («Хозяин и работник»). Всесторонняя доброкачественность этих безупречно христианских произведений как бы гарантируется восторженным отзывом о них сурового византийского церковника и превосходнейшего, совсем еще не оцененного стилиста Константина Леонтьева. (Этюд под заглавием «Анализ, стиль и веяние»). Среди них одно из самых удачных – «Хозяин и работник».
Вот что видится замерзающему и покрывшему собой работника Никиту – Василию Андреевичу – «хозяину»:
«И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уже не Иван Матвеевич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреевич рад, что этот кто-то пришел за ним. "Иду!" – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким заснул. Он хочет встать и не может; хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыхание, даже слабый храп Никиты. "Жив Никита, значит, жив и я", – с торжеством говорит он себе.
И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. "Что ж, видь он не знал, в чем дело, – думает он про Василия Брехунова. – Не знал, как теперь знаю. Теперь уже без ошибки. Теперь знаю". И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» – радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его.
И больше уже ничего не видел и не слышал и не чувствовал в этом мире Василий Андреевич.
Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреевича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту».
Самым важным всю жизнь, от начала и до конца его литературной деятельности, вопросом для Толстого был вопрос о тайне смерти, об отделении души от тела и о загробной судьбе, о загробном пути. Опыт, внутренний опыт, у Толстого был огромен – ибо только об этом одном он и думал всю свою жизнь. Этот опыт и привел его к самому порогу великой тайны, и он поведал миру, что тайна кладущего живот свой за друга своего – есть великая светлая тайна и что обетования Господа здесь непреложны.