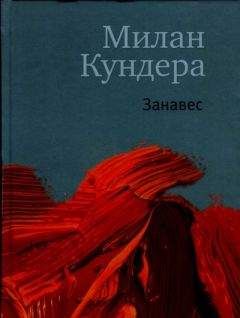Он не любит польскую литературу XIX века. (Она для него слишком романтична.)
И в целом он весьма сдержанно относится к польской литературе. (Он чувствовал, что его недолюбливают современники, однако в его сдержанности нет злобы, она отражает ужас человека, запертого в малом контексте. Он говорит о польском поэте Тувиме: «О каждом его стихотворении мы можем сказать, что оно „великолепно“, но, если нас спросить, каким тувимским элементом Тувим обогатил мировую поэзию, мы ничего не сможем ответить».)
Он любит авангард двадцатых — тридцатых годов. (Не доверяя их «прогрессивной» идеологии, их «просовременному модернизму», он разделяет их стремление к поискам новых форм и свободу воображения. Он советует молодому автору: прежде всего, по примеру «автоматического письма» сюрреалистов, написать двадцать страниц без всякого рационального контроля, затем перечитать написанное острым критическим взглядом, оставить основное и продолжить в том же духе. Как если бы он хотел впрячь в карету романа дикую лошадь по имени Хмельной Восторг рядом с лошадью по имени Ясность.
Он презирает ангажированную литературу. (Знаменательная вещь: он не слишком полемизирует с авторами, подчинившими литературу борьбе против капитализма. Парадигмой ангажированного искусства является для него как автора, запрещенного в коммунистической Польше, та литература, которая шагает под знаменем антикоммунизма. С первого года написания «Дневника» он упрекает эту литературу в манихействе, в упрощенности.
Он не любит французский авангард пятидесятых — шестидесятых годов, особенно «новый роман» и «новую критику» (Ролан Барт). (В адрес «нового романа»: «Это убого. Это скучно… Солипсизм. Онанизм…» В адрес «новой критики»: «Чем это научнее, тем глупее». Он был раздражен дилеммой, перед которой эти авангардные новшества ставили писателей: или модернизм по их подобию (тот самый модернизм, который он считает заумным, университетским, доктринерским, лишенным связи с реальностью), или привычное искусство, которое до бесконечности воспроизводит одни и те же формы. Итак, модернизм в понимании Гомбровича — использовать новые открытия в продвижении по унаследованному пути. До тех пор, пока это возможно. Пока унаследованный путь романа еще существует.)
Другой континент
Это было через три месяца после того, как русская армия оккупировала Чехословакию; Россия была еще неспособна подчинить себе чешское общество, которое жило в тревоье, но (еще на несколько месяцев) обладало свободой; Союз писателей, обвиненный в том, что является очагом контрреволюции, пока еще сохранял свои здания, издавал журналы, приглашал гостей. Именно тогда по его приглашению в Прагу приехали три латиноамериканских писателя: Хулио Кортасар, Габриэль Гарсиа Маркес и Карлос Фуэнтес. Они приехали незаметно, как писатели. Чтобы посмотреть. Чтобы понять. Чтобы подбодрить своих чешских собратьев. Я провел с ними незабываемую неделю. Мы подружились. Именно после их отъезда я смог прочитать в корректуре чешский перевод романа «Сто лет одиночества».
Я подумал об анафеме, которой сюрреализм предал искусство романа, заклеймив его, назвав антипоэтичным и невосприимчивым для свободного воображения. Между тем роман Гарсиа Маркеса — это воплощение свободного воображения. Одно из величайших поэтических творений, которые я знаю. Каждая отдельная фраза — это всплеск фантазии, каждая фраза — неожиданность, изумление, хлесткий ответ на презрительное отношение к роману, высказанному в «Манифесте сюрреализма» (и в то же время дань уважения сюрреализму, его вдохновению, его веяниям, пронизавшим столетие).
Это также доказательство того, что поэзия и лирика не являются родственными понятиями, эти понятия следует держать на расстоянии одно от другого. Поскольку поэзия Гарсиа Маркеса не имеет ничего общего с лирикой, автор не исповедуется, не раскрывает душу: он одержим лишь объективным миром, который помещает в сферу, где все является реальным, неправдоподобным и волшебным одновременно.
И вот еще: великий роман XIX века сделал из сцены основной элемент композиции. Роман Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» стоит в начале дороги, ведущей в противоположном направлении: там нет никаких сцен! Они полностью растворены в завораживающих потоках повествования. Я не знаю ни одного подобного примера такого стиля. Как если бы роман вернулся на века назад к повествователю, который ничего не описывает, который только рассказывает, но рассказывает с прежде никогда не виданной свободой фантазии.
Серебристый мост
Через несколько лет после пражской встречи я перебрался во Францию, где, по воле случая, послом Мексики был Карлос Фуэнтес. Я жил тогда в Ренне и во время своих кратких приездов в Париж останавливался у него, в мансарде его посольства, и вместе с ним завтракал, ведя бесконечные беседы. Я сразу же увидел свою Центральную Европу в неожиданной близости от Латинской Америки: две опушки Запада, расположенные на противоположных концах; заброшенные, презираемые, покинутые земли: земли-парии; и вместе с тем две части мира, более всего отмеченные мучительным опытом барокко. Я сказал «мучительным», потому что барокко появилось в Латинской Америке в качестве искусства завоевателей, а в мою родную страну оно было принесено кровавой Контрреформацией, той самой, что заставила Макса Брода окрестить Прагу «городом зла»; я тогда увидел две части мира, слившиеся в таинственном альянсе зла и красоты.
Мы беседовали, и серебристый мостик, легкий, дрожащий, мерцающий, протягивался, словно радуга над веком, между моей маленькой Центральной Европой и огромной Латинской Америкой; этот мост соединял исполненные восторга статуи и работы Матиаша Брауна в Праге и сумасбродные церкви Мексики.
Еще я думал о другой близости между двумя нашими родными землями — они занимали ключевое место в эволюции романа XIX века: прежде всего романисты Центральной Европы двадцатых — тридцатых годов (Карлос называл «Сомнамбулы» Броха величайшим романом века), затем, каких-нибудь двадцать-тридцать лет спустя, латиноамериканские романисты, мои современники.
Однажды я открыл для себя романы Эрнесто Сабато: в «Ангеле тьмы» (1974), изобилующем размышлениями, как некогда романы двух великих венцев, он говорит: в современном мире, в котором нет места философий, который раздроблен на сотни научных течений, роман остается для нас последним наблюдательным пунктом, откуда можно охватить человеческую жизнь как единое целое.
За полвека до него, на другой стороне планеты (серебристый мостик продолжал раскачиваться над моей головой), Брох в «Сомнамбулах», Музиль в «Человеке без свойств» имели в виду то же самое. В эпоху, когда сюрреалисты возводили поэзию в ранг главнейшего из искусств, они, Брох и Музиль, признавали ведущее место за романом.
Часть четвертая
Что такое романист?
Чтобы понять, надо сравнить
Когда Герман Брох хочет явить нам какой-то персонаж, прежде всего он вычерчивает основную линию его поведения, чтобы затем постепенно приблизиться к отдельным чертам характера. Он переходит от абстрактного к конкретному. Эш — это главный герой второго романа трилогии «Лунатики». По своей сути, говорит Брох, это бунтовщик. Что такое бунтовщик? Лучший способ понять какой-либо феномен, продолжает Брох, это сравнить его с чем-нибудь. Брох сравнивает бунтовщика с преступником. Что такое преступник? Это консерватор, который полагается на порядок, каков он есть, и собирается с ним смириться, а свои кражи и мошенничества считает профессией, делающей из него такого же гражданина, как и все прочие. А бунтовщик, напротив, борется против установленного порядка, чтобы подчинить его своему контролю. Эш — не преступник. Эш — бунтовщик. Бунтовщик, говорит Брох, такой, как Лютер. Но почему я говорю про Эша? Меня интересует романист. С кем сравнить его?
Поэт и романист
С кем сравнить романиста? С лирическим поэтом. Содержание лирической поэзии, как сказал Гегель, — это сам поэт; он дает слово своему внутреннему миру, желая пробудить таким образом у слушателей чувства, состояния души, которые испытывает сам. И даже если в стихотворении затрагиваются темы «объективные», не имеющие отношения к его собственной жизни, «большой лирический поэт сумеет довольно быстро от этого отойти и все равно в конце концов напишет портрет самого себя» (stellt sicb selber dar).
Музыка и поэзия имеют преимущество перед живописью, и это преимущество — лиризм (das Lyriscbe), утверждает Гегель. А в лиризме, продолжает он, музыка может уйти еще дальше, чем поэзия, потому что способна постичь самые тайные движения внутреннего мира, недоступные слову. Следовательно, существует искусство, в данном случае музыка, которая лиричнее, чем сама лирическая поэзия. Отсюда мы можем сделать вывод, что понятие лиризма не ограничивается одной ветвью литературы (лирическая поэзия), но обозначает определенный способ существования, и с этой точки зрения лирический поэт не что иное, как самое показательное воплощение человека, ослепленного собственной душой и желанием, чтобы ее поняли.