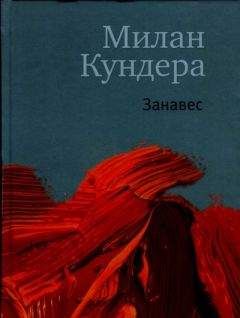О Прусте я в ту пору не знал ничего, только видел корешки двух десятков томов «В поисках утраченного времени» в чешском переводе, которые стояли в книжном шкафу одного моего друга. Благодаря Блатному, благодаря его «Albertinko, ty» однажды я погрузился в это чтение. Когда я дошел до части «Под сенью девушек в цвету», Альбертина Пруста незаметно слилась с Альбертиной моего поэта.
Чешские поэты очень любили творчество Пруста, но не знали его биографии. Иван Блатный тоже не знал ее. Впрочем, сам я достаточно поздно утратил привилегию этого прекрасного неведения, услышав, что образ Альбертины был вдохновлен мужчиной, возлюбленным Пруста.
Но что это за разговоры! Вдохновлена она таким-то или такой-то, Альбертина есть Альбертина, и все! Роман — это плод алхимии, которая превращает женщину в мужчину, мужчину в женщину, грязь в золото, анекдот в драму! Именно эта божественная алхимия и есть сила всякого романиста, тайна и величие его искусства!
И ничего с этим не поделать: напрасно я упорствовал, считал Альбертину одной из самых незабываемых женщин: как только мне стало известно, что ее прообразом был мужчина, эта никчемная информация поселилась в моей голове, как вирус, занесенный в программу компьютера. Какой-то мужчина встал между мной и Альбертиной, он затуманивает ее образ, подтачивает женское начало в ней, какое-то мгновение я вижу ее с прекрасными грудями, потом с плоской грудью, иногда на нежной коже ее лица вдруг пробиваются усы.
Убили мою Альбертину. Я вспоминаю слова Флобера: «Художник должен заставить поверить потомков, что он не жил на свете». Смысл этой фразы следует понимать так: в первую очередь писатель должен защищать не самого себя, но Альбертину и мадам Арну.
Приговор Марселя Пруста
В «Поисках утраченного времени» Пруст высказывается с предельной ясностью: «В этой книге… нет ни единого невыдуманного факта, ни единого реального персонажа». Столь тесно связанный с жизнью своего автора, роман Пруста оказывается по другую сторону автобиографии; в нем нет никакой биографической интенции; он написал его не для того, чтобы рассказать о своей жизни, а чтобы высветить перед читателями их собственную жизнь: «… всякий читатель читает прежде всего самого себя. А произведение писателя — не более чем оптический прибор, врученный им читателю, позволяющий последнему различить в себе самом то, что без этой книги он, вероятно, не смог бы разглядеть. Узнавание читателем в себе того, о чем говорится в книге, является доказательством ее подлинности…» [20] Эти фразы Пруста определяют не только смысл прустовского романа, они определяют смысл самого искусства романа.
Нравственность сущности
Бардеш завершает свой вердикт о «Госпоже Бовари»: Флоберу не удалась его писательская карьера! Не таково ли, в сущности, суждение многих почитателей Флобера, которые в конце концов говорят вам: «Ах, если бы вы прочли его переписку, какой это шедевр, какого интересного человека она нам показывает!»
Я тоже часто перечитываю переписку Флобера, желая узнать, что он думал о своем искусстве и искусстве других. Тем не менее переписка, сколь бы захватывающей она ни была, не является ни шедевром, ни даже просто творчеством. Потому что творчество — это не есть совокупность всего, что написал автор: письма, записные книжки, дневники, статьи. Творчество — это результат длительной работы над неким эстетическим проектом.
Я готов пойти дальше: творчество — это то, что писатель сам одобрит в час, когда придет пора подводить итоги. Поскольку жизнь коротка, чтение долго, а литература вот-вот покончит с собой путем бессмысленного расиространения. Начав с самого себя, каждому писателю следовало бы отбросить все вторичное, провозгласить для себя самого и для другие нравственность сущности!
Но существуют не только авторы: сотни, тысячи авторов, есть еще исследователи, целая армия исследователей, которые, руководствуясь противоположными устремлениями, собирают все, что могут найти, чтобы объять Все: это их высшая цель. «Все», а именно горы черновиков, зачеркнутые параграфы, главы, выброшенные автором, но опубликованные исследователями в так называемых критических изданиях под обманчивым названием «варианты», а это означает, если слова по-прежнему имеют смысл, что все написанное автором было бы им и одобрено.
Нравственность сущности уступила место нравственности архива. (Идеал архива: успокоительное равенство, которое воцаряется в гигантской общей могиле.)
Чтение долго. Жизнь коротка
Я разговариваю с одним другом, французским писателем, уже довольно пожилым; я настаиваю на том, чтобы он прочитал Гомбровича. Когда я встречаюсь с ним позднее, он несколько обескуражен: «Я послушался вас и, честно говоря, не понял вашего энтузиазма». — «Что вы прочли?» — «„Бесноватых“». — «Черт побери! Но почему же „Бесноватых“?»
«Бесноватые» были опубликованы отдельным изданием только после смерти Гомбровича. Это роман «для народа», который он в молодом возрасте публиковал с продолжением под псевдонимом в одной из польских довоенных газет. Он никогда не выпускал его отдельным изданием и не собирался этого делать. К концу жизни появился том его интервью, данных им Доминику де Ру под названием «Завещание». Гомбрович комментирует там все свое творчество. Все. Одну книгу за другой. И ни единого слова про «Бесноватых»!
Я сказал: «Тебе нужно прочитать „Фердидурка“! Или „Порнографию“!»
Он грустно посмотрел на меня. «Друг мой, жизнь день ото дня становится все короче. Время, которое я мог потратить на вашего автора, уже исчерпано».
Мальчик и его бабушка
Стравинский навсегда разорвал свою долгую дружбу с дирижером Ансерме, который собирался сделать купюры в его балете «Игра в карты». Позднее Стравинский сам возвращается к своей «Симфонии для духовых» и делает несколько исправлений. Узнав об этом, Ансерме возмущается: он не любит исправлений и оспаривает право Стравинского изменять то, что он написал.
В первом, как и во втором, случае ответ Стравинского вполне уместен: «Дорогой, это вас не касается! В моем творчестве вы ведете себя как в своей собственной спальне! То, что написал автор, не принадлежит ни его папе, ни его маме, ни его нации, ни человечеству, это принадлежит только ему самому, он может это публиковать, когда хочет и если хочет, он может это изменять, исправлять, удлинять, сокращать, может бросить в унитаз и спустить воду. Без всяких обязательств объясняться по этому поводу с кем бы то ни было».
Мне было девятнадцать лет, когда в моем родном городе молодой университетский исследователь читал публичную лекцию; это были первые месяцы коммунистической революции, и, повинуясь духу времени, он говорил о социальной ответственности искусства. После лекции состоялась дискуссия; у меня остался в памяти поэт Йозеф Кенар (из того же поколения, что Блатный, он тоже умер несколько лет назад), который, в ответ на выступление ученого, рассказал историю: маленький мальчик гуляет со своей старенькой слепой бабушкой. Они идут по улице, и время от времени мальчик говорит: «Бабушка, осторожно: корень!» Старая дама, полагая, что находится на лесной тропинке, подпрыгивает. Прохожие ругают мальчика: «Мальчик, как ты обращаешься со своей бабушкой!» А тот отвечает: «Это моя бабушка! Я обращаюсь с ней как хочу!» Кенар сказал в заключение: «Это я, история про меня и мою поэзию». Я никогда не забуду эту демонстрацию права автора, провозглашенную под недоверчивым взглядом молодого революционера.
Вердикт Сервантеса
В своем романе Сервантес неоднократно перечисляет книги о рыцарстве. Он упоминает их названия, но не всегда считает необходимым указать имена авторов. В те времена уважение к автору и его правам еще не стало нормой.
Вспомним: перед тем как Сервантес закончил второй том романа, другой писатель, до сих пор неизвестный, опередил его, опубликовав под псевдонимом свое собственное продолжение приключений Дон Кихота. Сервантес реагирует, как отреагировал бы любой писатель сегодня, то есть с возмущением; он яростно набрасывается на плагиатора и с гордостью заявляет: «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено было действовать, мне — описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару» [21].
Со времен Сервантеса вот первый и основной признак романа: это единственное и неподражаемое творение, неотделимое от воображения единственного автора. До того как роман был написан, никто не мог представить себе Дон Кихота: он стал неожиданностью, а без очарования неожиданности нельзя отныне помыслить никакой известный персонаж романа (и никакой великий роман).
Зарождение искусства романа было связано с осознанием авторского права и его яростной защитой. Писатель — единственный хозяин своего произведения; он и есть его произведение. Так было не всегда. И так будет не всегда. Но тогда искусство романа, наследие Сервантеса, перестанет существовать.