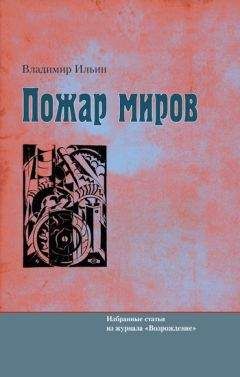Особенно важна трактовка судебного следователя Порфирия Петровича и всех его допросов в шутовских тонах и без малейших признаков официалыцины и государственности, хотя то и другое стоит «близ при дверях». Парадоксальным образом, это «шутовство» оттеняет всю чрезвычайную серьезность темы Порфирия Петровича, который вследствие этого превращается в голос совести самого Раскольникова, а стало быть, и в голос Божий в его душе. Это – путь оправдания государственного суда и следствия. Достоевский здесь гораздо выше Толстого и всего того, что с Толстым связано, также бесконечно выше народничества, славянофильства и, вообще, всего, что связано с вульгарной критикой права и государства на почве упрощенного понимания Евангельского учения «непротивления злу», – в чем и провинился Л.Н. Толстой.
Искушения и опасности падения для Достоевского были искушениями «интеллигенщины» – отсюда его яростно-гневное отталкивание от нее, та своеобразная антитеза по отношению к ней, которая составляет одну из важнейших тем диалектики «Бесов». В известном смысле слова, «Белинского» Достоевский носил в самом себе. Иван Карамазов – частичная идеологическая зарисовка «неистового Виссариона» – есть в то же время и частичный автопортрет. Этого никогда не следует забывать. И еще большой вопрос, что более удаляет человека от Бога – интеллигенщина или же Пан-чувственник, в огромной дозе присутствовавший в Л.Н. Толстом. Возможно, и, пожалуй, даже наверное, что первая, а не второй. Вот почему у Достоевского было такое преклонение перед гением Толстого, и это в то время, как Толстой, хотя и восхищавшийся гением Достоевского, в нем, в сущности говоря, не испытывал большой нужды.
Тема эта – одна из труднейших проблем философии русской литературы.
Интеллигенщину Достоевский, однако, осудил, проклял и убил, вооружившись для этого Словом Божиим (Быт. 38, 1-10). Другим, почти столь же мощным орудием, как и Слово Божие, в борьбе с «внутренним Белинским», то есть с интеллигенщиной – мы говорим здесь исключительно о плане диалектическом, – была для Достоевского женщина, играющая в его романах совершенно исключительную роль. Поэтому романы Достоевского больше, чем романы, но и больше, чем трагедии, – женщина и женское начало являют себя в них тоже с совершенно неожиданной стороны. Можно сказать, что Достоевский не только как бы вновь открывает женщину, но, пожалуй, и создает иную «женщину».
Он наделен воистину божественным всемогуществом гения, которому дано творить наново, создавать «мыслеобразы», «формы», «иконы»; все это – ранее небывшее и как бы через Достоевского получившее и бытие, и экзистенциальное воплощение; и это прежде всего касается его женщин. Это совсем не значит, что женщины Достоевского только плод его творчества; в том-то и чудо всех его незабываемых женских образов, что они и до чрезвычайности нам всем близки, знакомы, пленительно-соблазнительны, – и в то же время мы удивляемся их новизне, их небывалому бытию. Вообще похоже на «открытие» женщины, всякий раз, когда на сцену выступает действительно очень большое катастрофическое и трагическое чувство, которое приносит с собой великую новизну. Есть у Достоевского – все в том же «Преступлении и наказании» – образы даже как бы списанные «с натуры», показывающие, что Достоевский при желании мог быть и великолепным портретистом: например, Пульхерия Александровна, мать Родиона Романовича Раскольникова, одна из лучших страждущих матерей в галерее мировой литературы. Мы ее словно видим. Мы ясно сознаем, что в каком-то особом, мистическом плане она реальнее самого своего страждущего и многогрешного сына и что она не только дала ему быте при рождении, но, еще умирая и уходя на ту сторону, делается его «заступницей усердной» – по образу Той, Которая есть общая Заступница рода человеческого. Мы воспринимаем смерть Пульхерии Александровны как некое «успение» по образу Матери и Девы.
Зато уже Дуня Раскольникова – это типичный «воплощенный дух», «огненный ангел», хотя и женское существо, но которому не приличествует обычное замужество. Она и выгоняет пошляка Петра Петровича Лужина, для того чтобы связать свою судьбу с таким странным существом, как самоотверженный друг Раскольникова Разумихин, составляющий в «том смысле» некое мужское дополнение Сони Мармеладовой. Без Разумихина и без Сони Раскольников, конечно, погиб бы, не выдержав встреч с голосом Божиим, по определению которого что человек сеет, то и жнет. Жатва эта была Раскольникову не под силу. И в его последнем диалоге с пришедшим к нему на дом – это уже совершенно символично – Порфирием Петровичем видно, что он стоит на краю той самой бездны, которая поглотила Свидригайлова.
«– Вы когда меня думаете арестовать?
– Да денька полтора или два могу еще дать вам погулять. Подумайте-ка, голубчик, помолитесь-ка Богу. Да и выгоднее это, ей-Богу, выгоднее».
Здесь «помолитесь Богу» означает нечто гораздо более серьезное, чем обычная молитва, хотя бы и в очень серьезных и тяжелых обстоятельствах.
«– А ну, как я убегу? – как-то странно усмехаясь спросил Раскольников.
– Нет, не убежите. Мужик убежит, модный сектант убежит, лакей чужой мысли, – потому ему только кончик пальчика показать, как мичману Дырке, так он на всю жизнь во что хотите поверит! А вы ведь вашей теории уже больше не верите, – с чем же вы убежите?»
Речь здесь идет вот о чем. Тема жизни и философии Раскольникова – это тема наполеонизма и характерного «ницшеанства» – что великому человеку и избранной натуре (подобно тому как есть, например, «избранные народы») – все дозволено. Это, конечно, при условии, что или Бога совсем нет, или же приходится изобретать какого-то особого, своего бога, «моего» – Родиона Романовича Раскольникова, – или какого-нибудь национального бога, который был бы у меня или у моей нации на побегушках – вроде чиновника особых поручений. Раскольников – натура нежная и чувствительная, которой овладела ложная идея, – к счастью для него, он не выдержал ни своей этой идеи, ни основанного на этой идее преступлении. Но так как Раскольников существо все же идейное и родился он для идеи, то перед ним раскрывается бездна небытия. Эту бездну может заполнить только Тот, который Сам в нее сошел, для того чтобы просветить ее Своим светом и не дать места князю тьмы обладать человеком. Но это дело свободного приятия. И Порфирий Петрович все время обращается к свободе в существе Раскольникова. Отсюда и отсутствие формальных принципов: государство маячит где-то на заднем плане лишь в виде молчаливой потенциальной угрозы, так и не приведенной в исполнение, ибо Раскольников при помощи Порфирия, как духовника, сам над собой свершил суд.
«Да и чего вам сбегать? В бегах гадко и трудно, а вам прежде всего надо жизни и положения определенного, воздуху соответственного, ну, а ваш ли там воздух? Убежите и сами воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись. А засади я вас в тюремный замок – ну месяц, ну два, ну три посидите, а там вдруг и, помяните слово мое, сами и явитесь, да еще как, пожалуй, самому себе неожиданно. Сами еще за час знать не будете, что придете с повинною. Я даже вот уверен, что вы «страдания надумаетесь принять»; мне-то на слово теперь не верите, а сами на том остановитесь. Потому страдания, Родион Романович, великая вещь; вы не глядите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю; не смейтесь над этим, страдание есть идея… Нет, не убежите, Родион Романович.
Раскольников встал с места и взял фуражку. Порфирий Петрович тоже встал.
– Прогуляться собираетесь? Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было, а впрочем, и лучше, как бы освежило…
Он тоже взялся за фуражку.
– Вы, Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, – с суровою настойчивостью произнес Раскольников, – что я вам сегодня сознался, вы человек странный, и слушал я вас из одного любопытства, а я вам ни в чем не сознался… Запомните это.
– Ну, да уж знаю, запомню – ишь ведь даже дрожит. Не беспокойтесь, голубчик; ваша воля да будет. Погуляйте немножечко; только слишком-то уж много нельзя гулять. На всякий случай есть у меня и еще к вам просьбица, – прибавил он, понизив голос, – щекотливенькая она, а важная: если, то есть на всякий случай (чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным), если бы на случай, ну так на всякий случай – пришла бы вам охота в этот срок – пятьдесят часов, как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим каким образом – ручки этак на себя поднять (предположение нелепое, ну да вы уж мне его простите), то – оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчечки, и об камне упомяните: благороднее будет-с. Ну-с, до свидания… Добрых мыслей, благих начинаний!»
Пути Раскольникова и Свидригайлова скрестились в ужасной теме самоубийства. Вот почему так веско звучит призыв Порфирия Петровича молиться Богу, вот почему не менее веско звучит его апелляция к свободному приятию креста, то есть страдания. Здесь с Раскольниковым будет Сам Бог, принявший крест и причтенный к злодеям, то есть к той самой категории, в которой тот очутился кознями князя века сего.