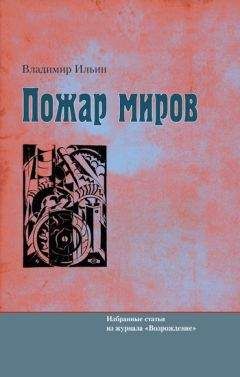Совсем другое дело Свидригайлов. Он натура такая же одаренная, как и Раскольников, а может быть, и еще одареннее. Это видно по его пониманию такого труднейшего вопроса, как вторжение вестей из того мира в наш мир. Здесь он положительно мог бы быть корифеем, знатоком и, пожалуй, «профессором». В нем нет ни капли «интеллигенщины», которая так же способна до конца опустошить и испошлить человека, как и «приобретательство» Лужина – Чичикова. По этой причине диалог Раскольникова и Свидригайлова – так же моментально догадавшегося без всяких к тому данных, что Раскольников – убийца, как догадался и Порфирий, – один из интереснейших и важнейших моментов не только этого романа Достоевского, но и вообще всей совокупности его творчества. Этот диалог стоит на одной высоте с диалогами в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». В нем два плана: 1) Неприязненная встреча умного и одаренного убийцы с умным и одаренным развратником. 2) Момент чисто диалектический, отвлеченный, на очень важные темы, в том числе и на темы метапсихичесие – по поводу явления призрака Марфы Петровны, жены Свидригайлова. Кстати, Свидригайлов косвенно виновен в смерти Марфы Петровны, поэтому большая доля греха убийства тяготеет и на его совести. Все это сообщает диалогу жуткую реальную конкретность, «воплощенность», несмотря на его кошмарность и ужас. Это, так сказать, вулкан, покрытый льдом, – явление, очень характерное для Достоевского и связанное с характеристикой его собственной личности, сочетающей гениальность мыслящей, философски чрезвычайно одаренной головы и огненную страстность природы. Этот диалог чрезвычайно важен в структуре самого романа, ибо в нем идет речь не только об «облагодетельствовании» Дуни Раскольниковой, которую по-настоящему полюбил Свидригайлов (хотя по развратности своей и завел себе одновременно полудитя-невесту), но еще о намерении увезти вместе с Дуней и самого Раскольникова, избавляя его таким образом от предстоящей ему каторги. Хотя все это, как и сама личность Свидригайлова, вызывает величайшее отвращение в Раскольникове, его ум и проницательность, а также и то, что «с умным человеком и поговорить любопытно» (как впоследствии выразится в «Братьях Карамазовых» Смердяков по поводу своей беседы с Иваном), приковывают Раскольникова к этому жуткому диалогу с магической силой, которой Свидригайлов обладал.
Свидригайлов хитрит и играет с Раскольниковым, как кошка с мышью – тоже на манер Порфирия; и Раскольников перед ним так же беззащитен, как и перед Порфирием. Ум – ужасающая сила!
«– Да вы и в эту минуту хитрить продолжаете.
– Так что ж? Так что ж? – повторял Свидригайлов, смеясь нараспашку, – ведь это, что называется, самая позволительная хитрость!.. Но все-таки вы меня перебили; так или этак, подтверждаю опять: никаких неприятностей не было бы, если бы не случай в саду. Марфа Петровна…
– Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили? – грубо перебил Раскольников.
– А вы и об этом слышали? Как, впрочем, не слыхать… Ну, насчет этого вашего вопроса, право, не знаю, как вам сказать, хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет, то есть не подумайте, чтобы я опасался чего-нибудь этакого: все это произведено было в совершенном порядке и в полной точности: медицинское следствие обнаружило алоплексию, происшедшую от купания сейчас же после плотного обеда с выпитою чуть не бутылкою вина, да и ничего другого обнаружить оно не могло. Нет-с, я вот что про себя думал некоторое время, вот особенно в дороге, в вагоне сидя: не способствовал ли я всему этому, как-нибудь там раздражением, нравственно, или чем-нибудь в этом роде? Но заключил, что и этого положительно быть не могло.
Раскольников засмеялся.
– Охота же так беспокоиться!
– Да вы чему смеетесь! Вы сообразите: я ударил всего только два раза хлыстиком, даже знаков не оказалось… Не считайте меня, пожалуйста, циником; я ведь в точности знаю, как это гнусно с моей стороны, ну и так далее; но ведь я тоже наверное знаю, что Марфа Петровна уже третий день принуждена была дома сидеть; не с чем в городишко показаться, да и надоела она там всем, со своим этим письмом (про чтение письма-то слышали?). И вдруг эти два хлыста как с неба падают!.. Первым делом карету велела закладывать!.. Я уж о том и не говорю, что у женщин случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорбленною, несмотря на все видимое негодование. Они у всех есть, эти случаи-то; человек вообще очень и очень любит быть оскорбленным, замечали ли вы это? Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляются».
В этом фрагменте Достоевский показывает, как за явно психологической и эмоциональной реальностью и под нею просвечивает пневматическая, то есть духовная, сущность амартологии: все грешны, в том числе и жертвы несправедливости и преступлений, и все страдают.
«Одно время Раскольников думал было встать и уйти и тем покончить свидание. Но некоторое любопытство и даже как бы расчет удержали его на мгновение.
– Вы любите драться? – спросил он рассеянно.
– Нет, не весьма, – спокойно отвечал Свидригайлов, – а с Марфой Петровной почти никогда не дрались. Мы весьма согласно жили, и она мной всегда довольна оставалась. Хлыст я употребил, во все наши семь лет, всего только два раза (если не считать еще одного, третьего случая, весьма, впрочем, двусмысленного): в первый раз – два месяца спустя после нашего брака, тотчас же по приезде в деревню, и вот теперешний последний случай. А вы уж думали я такой изверг, ретроград, крепостник? Хе-хе…»
Издеваясь над «чертовым семенем» и «щелкоперами» («Ревизор» Гоголя), истинная природа которых вскрыта Достоевским в «Бесах», Свидригайлов продолжает:
«– А кстати: не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и вселитературно одного дворянина – забыл фамилию – вот еще немку-то отхлестал в вагоне? Тогда еще, в тот же самый год, кажется, "безобразный поступок века" случился (ну, "египетские-то ночи", чтение-то публичное, помните?). Черные-то глаза? О, где ты, золотое время нашей юности! Ну-с, так вот мое мнение: господину, отхлеставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно… Что же сочувствовать! Но при сем не могу не заявить, случаются иногда такие подстрекательные немки, что, мне кажется, нет ни единого прогрессиста, который бы совершенно мог за себя поручиться. С этой точки никто тогда не посмотрел на предмет, а между тем эта точка-то и есть настоящая гуманная, право-с!»
Эта замечательная тирада должна быть выделена по многим причинам. Это – и бесподобный образчик юмора Достоевского. Это – и идеологическая связь с «Бесами». Кроме того, несомненно, здесь Достоевский прибегает к излюбленному методу вложения своих собственных мыслей и переживаний, самых интимных, органически с ним связанных – в уста заведомо одиозных персонажей. Это очень важно для реконструкции общего миросозерцания – как Достоевского, так и других вершин русского литературного искусства, которые по всем пунктам не только расходятся со «светлыми личностями», но также по всем пунктам предпочитают «светлым личностям» – заведомых разбойников и развратников. Эти – все же сохранили свою человеческую природу, способную к просветлению и к спасению. «Светлые же личности» – просто тьма и небытие.
«Раскольников мрачно посмотрел на него.
– Вы даже, может быть, и совсем не медведь, – сказал он, – мне даже кажется, что вы очень хорошего общества, или, по крайней мере, умеете при случае быть и порядочным человеком.
– Да ведь я ничьим мнением особенно не интересуюсь, – сухо и как бы с оттенком высокомерия ответил Свидригайлов, – а потому отчего же не побывать и пошляком, когда это платье в нашем климате так удобно носить и… и особенно, если к этому и натуральную склонность имеешь, – прибавил он, опять засмеявшись».
Здесь опять блестящий протуберанец остроумия автора «Бесов» и, вместе с тем, тонкое амартологическое замечание, смысл которого тот, что грех, рано или поздно, всегда ведет к пошлости. А Свидригайлов именно по причине своего очень большого ума не мог не чувствовать своей огромной греховности, ставящей его на край смерти второй.
«– А вы были шулером?
– Как же, не без этого?»
Свидригайлов повинен в самых больших грехах, но только не в грехе лицемерия – типичном грехе «светлых личностей» (они же «щелкоперы» и «чертово семя»),
«…– Целая компания нас была, наиприличнейшая, лет восемь назад; проводили время; и все, знаете ли, люди с манерами, поэты были, капиталисты были. Да и вообще у нас, в русском обществе, самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали – заметили вы это? Это я ведь в деревне теперь опустился. А все-таки посадили было меня в тюрьму за долги, греченка один нежинский. Тут и подвернулась Марфа Петровна, поторговалась и выкупила меня за 30 ООО серебряников (всего-то я 70 ООО был должен). Сочетались мы с ней законным браком, и увезла она меня тотчас к себе в деревню, как какое сокровище. Она ведь старше меня пятью годами. Очень любила. Семь лет из деревни не выезжал. И заметьте, всю-то жизнь документ против меня на чужое имя, в этих 30 ООО держала, так что, задумай я в чем-нибудь взбунтоваться, – тотчас же в капкан! И сделала бы! У женщин ведь это все вместе уживается».