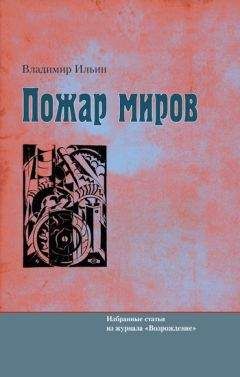Не раз в течение этой размолвки подчеркивалось с двух сторон полное расхождение Леонида Николаевича с Максимом Горьким по всем решительно пунктам. И одним из главнейших – не говоря уже о любви Леонида Николаевича к России и ненависти к ней Горького – было еще и то, что Леонид Николаевич принадлежал всецело к писателям и мыслителям русского Ренессанса, в то время как Пешков был щепкой на одной из последних волн отходившего в вечность XIX века.
Леонид Андреев вполне заслужил почетное имя корифея русского Ренессанса в духе символизма и ярко бьющего в глаза импрессионизма. Вообще Леонид Андреев – фигура и в жизни, и в творчестве чрезвычайно яркая и многокрасочная. Достаточно поставить рядом портрет красивого, одухотворенного Андреева, с чертами измученного музыканта или живописца, и рожу наглеца мастерового, выучившего две-три цитаты из политграмоты, чтобы и выбор был сделан, и мигом стало понятно, почему два таких человека не могли ужиться.
Что Россия и борьба за нее были главными вдохновителями Леонида Андреева, видно из того, что самые его плодовитые годы были годы военные. Он буквально питался борьбой за Россию. Можно себе представить, как он стал чужд представителям той среды, с которой он был некогда близок. Amicus Plato, sed magis arnica Veritas (Платон – друг, но еще больший друг – истина). Эту пословицу, которую в порядке легендарном приписывают критику Платона Аристотелю, в еще большей степени можно приписать Леониду Андрееву, с той только разницей, что место отвлеченной гносеологической истины у него занимала Россия – живая, любимая Россия, о которой он мог сказать словами А. Блока:
О, Русь моя! Жена моя!
Пропасть, образовавшуюся между лицемерным ханжой марксизма и революции М. Горьким и К0 и Леонидом Андреевым, можно охарактеризовать очень простой формулой: у Горького и Ленина с К0 – «погибни Россия, лишь бы жила революция». У Андреева: «погибни революция, лишь бы жила Россия».
Несмотря на свою некогда большую приверженность к «красным» и «левым» идеям (ср. совсем неудачного «Сашку Жегулева»), Леонид Андреев уже к лету 1917 г., по-настоящему и в непосредственной близости рассмотрев «революцию» и «революционера-марксиста», да еще в болыневицкой редакции, увидел в них скопление самого мерзкого, что только существует на земле, «оригинал» того, копией чего были смягченные искусством литературные ужасы Эдгара По и его собственные.
В. Ходасевич как-то сказал о Федоре Сологубе, что он в спокойное время мог сколько угодно в порядке литературно-поэтическом заигрывать с диаволом. Но когда пришел и водворился в лице большевизма настоящий диавол – он с ужасом и омерзением отшатнулся от него. То же самое произошло – с соответствующими вариациями – и с Леонидом Андреевым.
Рассмотрев Максима Горького и прочих гнусов, он стал испытывать те жесточайшие страдания, которые неизбежно испытывает такой гуманный и необыкновенно добрый человек с «ободранной кожей», каким был Леонид Андреев, при виде такого омерзительного зрелища, как победившая революция… Нам здесь достаточно сослаться на таких лиц, как Ипполит Тэн и Эдгар Кинэ, которых никак не причислишь к так называемым «реакционерам». А сверх того, французская революция, несмотря на все ее бесчеловечия и мерзости, несмотря на ее лозунг «республика в ученых не нуждается», несмотря на казнь Лавуазье, Андрэ Шенье, Байи, несмотря на массовые истребления детей, на все свои диавольские ужасы, идеологические пошлости и фразеологическую банальщину, все же детские игрушки сравнительно с советским чекизмом – и это уже по причине антинародного и пораженческого характера этого последнего… Во французской революции страдавшие от ее жестокостей и мерзостей могли утешать себя патриотической фразеологией и тем, что били немцев… Здесь – все наоборот, кровь проливалась реками ради истребления своего народа, своей страны, отданных на поток и разграбление самым свирепым внешним хищникам из смердяковской ненависти к России, которая и перестала существовать, ибо на ее месте водворился СССР, – переименование здесь символ огромного значения, какими бы врагами символизма ни были советские смердяковы… Вот что беспредельно, выше всякой меры мучило Леонида Андреева, вот чего не выдержало его благородное сердце.
Метафизически его «болезнь о России» и кончина от этой болезни имеет огромное значение и, повторяем, это – ключ к внутренним, сокровенным глубинам его творчества, ибо страдания и гибель Земли Русской – это как бы интеграл всех ужасов палитры его творчества. Сам Леонид Андреев и его критики, даже благожелательные, преувеличивают мнимое однообразие его красок – будто бы он писал одними черными и красными цветами. Эти краски действительно были у него преобладающими, – это верно. При всем том было у него много нюансов в использовании этих красок, а сверх того, были еще и другие, весьма своеобразные цвета… Стоит, например, вспомнить «Черные Маски», или «Мысль», или «Он». Притом, когда понадобилось такому несхожему с Леонидом Андреевым писателю, как И.А. Бунин, взяться за вполне «андреевский» сюжет, как в повести «Безумный Художник», – краски пришлось ему употребить абсолютно те же, что употреблял Леонид Андреев, не говоря уже о криках, воплях, нервной дрожи и постоянных подчеркиваниях.
А вещь получилась очень хорошая и чрезвычайно сильная. Но расписаться под ней Леонид Андреев мог бы обеими руками, – и даже мог бы гордиться блестящим учеником, в ужасах пошедшим, если угодно, дальше самого учителя, хотя, казалось бы, это было и невозможно.
Несомненно существует то, что Кабанес назвал «адом истории». И в частности, существует «ад русской истории», специфический «русский ад», вызвавший, словно раскаленными клещами вынужденное, «вытянутое» из нутра Пушкина известное восклицание:
«Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом»…
Здесь надо искать корней специфического «русского пессимизма» и наклонности русских людей к различного рода формам самоубийства. Этим, быть может, и объясняется то, что, пожалуй, самая гениальная из фигур Достоевского, это – Кириллов (из «Бесов»), И самая острая, в глубь идущая и вполне трансцендентная диалектика у Достоевского, это – диалектика человеко-божества и самоубийства. То, что следует дальше, – реализация или, если угодно, воплощение этого диалектического пути – невообразимо страшная сцена фактического самоубийства Кириллова – тоже превосходит все пределы ужасного и омерзительного. Кажется, здесь Достоевский побил свои собственные рекорды этого рода, поставленные им в «Бобке».
Нет никакого сомнения в том, что здесь как в некотором таинственном зерцале отразилась сущность невыносимо ужасной и мучительной истории России. Заметим тут же, что все пророческие итоги в этом духе и все предсказания были явлены в русском XIX веке. Дальнейшее совершилось уже на наших глазах.
Искусство передавать ужасное, уродливое, отвратительное, мерзкое и преступное, наряду с оккультными кошмарами, самым мучительным и невыносимым, что вообще знает человек (независимо от высоты его культурного уровня), – это тоже характерная особенность русско-европейского XIX века. Здесь не будет излишним напомнить, что из всех артистов этого рода ближе всего стоит к Леониду Андрееву Эдгар По. Но есть много оснований предполагать, что сам Эдгар По набрался соответствующих материалов и напитал себя ими во время своего долгого пребывания в России, именно в Петербурге. Ведь в Петербурге, вернее, о Петербурге был Гоголем создан его гениальный «Портрет», где он в своей художественной лаборатории так причудливо переплавил элементы Гофмана и грядущего, словно предчувствуемого Эдгара По. Из художников, ближе всего стоявших к Гоголю и По, Франсиско Гойя был тоже очень близок Леониду Андрееву, который его чрезвычайно почитал. В цитированной уже нами книге В.Л. Андреева «Детство» содержится портрет писателя по соседству с громадной репродукцией одного из характернейших «Капризов»-гравюр. На этом изображении Л. Андреева он, словно не в силах вынести всего этого нагромождения и напряжения демонической стихии, как бы слегка даже отворачивается от гениального творения, его вдохновляющего.
Вообще из всех искусств сам Леонид Андреев, как по вкусам, так и по возможностям, в нем таившимся, стоял ближе к живописи. Однако автор этих строк – может быть, по той причине, что он музыкант-композитор и музиколог, – переживает Леонида Андреева как ближе всего стоящего к музыке. Я бы даже сказал, что сокровеннейшее de profundis души и творчества Леонида Андреева связано самыми интимными узами с Эвтерпой.
Очень часто художественно-словесные приемы Леонида Андреева и его характерный стиль переходят грань слова и, стремясь врезаться игрой своей фантазии, своими образами-импрессиями (Леонид Андреев зараз – импрессионист, экспрессионист и символист) в потревоженную душу читателя, на деле звучат как стимулы для музыкальных «переводов» (говоря языком мастеров знаменного распева). У Леонида Андреева есть вещи – большей частью писанные для сцены, – которые представляют от начала и до конца не только «программу» и «канву» для композитора, но сами составляют законченные музыкальные композиции, выражающие музыку души самого мастера. Это может быть и по той причине, что живопись (как и архитектура) стоит настолько близко к музыке, что кажется выходящей из общего метафизического корня.