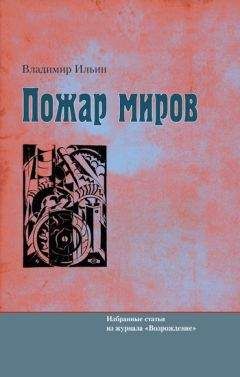Их «пальба» по Блоку воистину «не из тучи гром», и «черти» Блока бесконечно добрее этих богословских дел мастеров, по глупости и не подозревающих об их собственной близости к марксизму.
Во всяком случае, то, что говорят у Блока «черти» в «Жизни моего приятеля», может вызвать только грустную улыбку умиления – как детский лепет гениального мальчика. Таким Блок и был, да и не мог им не быть, иначе не был бы он последним русским поэтом, подлинно гениальным, но детски кричавшим от страха при виде настоящих чертей. А его «черти»… Если бы их было достаточно сейчас в России, то, может быть, она бы ими и спаслась. Ведь это целебная от марксо-коммунизма dolce vita – и пути Божии воистину неисповедимы!
Греши, пока тебя волнуют
Твои невинные грехи,
Пока красавицу колдуют
Твои греховные стихи.
На утешенье, на забаву
Пей искрометное вино,
Пока вино тебе по нраву,
Пока не тягостно оно.
Сверкнут ли дерзостные очи —
Ты их сверканий не отринь,
Грехам, вину и страстной ночи
Шепча заветное «аминь».
Ведь все равно – очарованье
Пройдет, и в сумасшедший час
Ты, в исступленном покаяньи,
Проклясть замыслишь бедных, нас.
И станешь падать – но толпою
Мы все, как ангелы, чисты,
Тебя подхватим, чтоб пятою
О камень не преткнулся ты…
Милые «черти» – побольше бы вас таких – и в мире не было бы той «ортодоксально» жреческой (марксистской тож) злобы, в которой он теперь задыхается…
Леонид Андреев и линия Эдгара По в русской литературе Тартар тоски кромешной
Общее характерное свойство нового и новейшего искусства – это намеренное нарушение цельности образов и действий в пользу некоторых черт и особенностей, по той или иной причине привлекших внимание автора. Этим приемом пользуются (вернее – пользовались), но в разных смыслах, символисты, импрессионисты, экспрессионисты и сюрреалисты, а также, с меньшим нажимом и, однако, с большей внутренней напряженностью, акмеисты. Резкие грани между этими школами и направлениями отсутствуют или существуют редко. Только самые крайние представители бессюжетного искусства могут считаться носителями своеобразной «чистоты стиля», то есть того, что можно назвать «отсутствием всякого присутствия» или абсолютным нигилизмом.
Сам термин «абстрактное искусство» внутренне противоречив – ибо основной признак искусства – мышление конкретными, неповторимыми образами.
Конечно, такие крупнейшие дарования, как Эдгар По, Леонид Андреев, Андрей Белый, Федор Сологуб, Франц Кафка, сюда никак не относятся. Это действительно очень одаренные артисты, вполне владеющие средствами выражения и имеющие ярко выраженное лицо. Их несчастье (если это только можно назвать несчастьем) в том, что они слишком скоро становятся классиками (или нео-классиками, нео– и «нео-нео»-романтиками), и таким образом неумная «публика» на поклонении им, на чтении их и на рассуждениях о них не может себе стяжать дешевых лавров так наз. «передовитости». Последняя в наше время означает неизвестно что и представляет собою просто хронологически определяемый часами или календарем текущий момент. Современное состояние рекламы и того, что можно назвать психотехникой набивания пустых черепных коробок, свело понятие «передового», «прогрессивного», «новейшего» искусства к пустым словам без всякого содержания.
Леонид Андреев, один из крупнейших представителей русского ренессанса, дожил до конца первой мировой войны и должен быть признан и типичным импрессионистом, и символистом XX века, наделенным весьма большим даром. В этом смысле он представитель «нового» искусства в самом положительном смысле слова. Но, приняв во внимание чрезвычайное ускорение времени, характеризующее – и в весьма опасном смысле – нашу эпоху, приняв во внимание, что в дни, когда жил и творил Леонид Андреев, время шло еще приблизительно «нормально», то есть время психо-пневматическое и время астрономическое, вернее, хронометрическое не очень отставали друг от друга, теория же относительности была лишь свежеиспеченной новинкой, тайны геометрии Лобачевского и квантовой физики Планка были известны лишь немногим специалистам, а сущность коротковолных лучей Рентгена и смысл открытия радия воспринимались как курьезы и никого не тревожили теми следствиями, которые за этим всем таились, – можно смело назвать автора «Черных Масок» тайновидцем – «классико-романтиком», пользующимся импрессионистическими приемами, но без малейшего намерения разрушить образ или сюжет. Темы Леонида Андреева были, как правило, необыкновенны. Но и здесь Достоевский, Ницше, Ибсен, Киркегор (тогда, правда, мало известный и проникавший в публику через драмы Ибсена), Метерлинк, Шарль Бодлер, Эдгар По, возрожденный Паскаль и др. приучили культурного читателя в значительной мере к необыкновенности сюжетов и к экстравагантности ситуаций…
В так называемой «большой публике» Леонид Андреев стал популярен за такие рассказы, как «Жили-были», «Рассказ о семи повешенных», и такие драмы, как «Профессор Сторицын», «Екатерина Ивановна», «Дни нашей жизни», где сюжеты самые обыкновенные, даже в «Рассказе о семи повешенных» (кого только не казнят и где только не казнят!). Тут на помощь в деле приобретения скорой популярности пришли и революционные круги. Будущие Петерсы, Дзержинские и Ежовы увидели в «Рассказе о семи повешенных» выполнение некоего «социального заказа» – и возликовали… На очень высокую художественную сторону этого шедевра им было просто «наплевать», да они его и не заметили…
«Скандал – двойник успеха». И глупейшие скандалы черносотенцев по поводу якобы кощунств, содержавшихся в блестящей символической драме «Жизнь человека», тоже не мало способствовали славе писателя. Когда же были поставлены «Черные Маски» – самое лучшее, что создал Л. Андреев, – то ни справа, ни слева поводов для скандала не было, высота же, глубина и таинственность замысла были доступны только очень немногим, – и вещь прошла почти незамеченной. К тому же музыка, написанная к «Черным Маскам» малюсеньким и весьма «благонамеренно-консервативным» композитором, конечно, не могла содействовать успеху этой вещи. Музыка же, написанная к «Черным Маскам» автором этих строк, была закончена уже только к «октябрю» и не могла быть созвучной шутовскому и кровавому гаму и галдежу победившей черни. Да к тому же она и погибла (сгорела в Киеве) в пламени гражданской войны начала 1918 г.
Как огромное большинство русской интеллигенции, Л.Н. Андреев в туманном облике так наз. «освободительного движения», пресловутой «весны» кн. Святополк-Мирского и революции 1905 г., не рассмотрел грядущего марксо-коммунистического хама, убийцы и чекиста. Это можно в значительной степени объяснить влиянием «красной педагогики» «поучительного» Максима Горького. Но параличом перед взглядом красной Горгоны заболела, конечно, вся Россия, – не исключая и царского правительства. Сопротивления в государственном смысле не было, – наблюдалось лишь инстинктивное действие рефлексов самосохранения. Но и рефлексы эти были слабы и весьма приблизительны. Достойную отповедь будущим чекистам дал только один П.А. Столыпин, но и того очень скоро убил «демон посредственности» – отнюдь не пуля Багрова, которая была случайностью. Этого хотели совсем не только слева…
У русского исторического и культурного гения было два врага. Они кажутся исключающими друг друга, но в действительности их обоих соединяла ненависть ко всему выходящему из ряда посредственности, оба были соединены в поклонении единому божку, тому самому, которому поклонялась Софья Фамусова, – божку «умеренности и аккуратности». Враждующие друг с другом фарисеи и саддукеи всегда сговорятся и соединятся для убиения «настоящего человека»… Из писателей и ученых, кажется, только четыре человека знали, что на Россию идет страшный красный вампир и что пощады от него не будет никому, что выживут только Молчалины, Загорецкие да Репетиловы… Эти четыре человека – Достоевский, Константин Леонтьев, А.К. Толстой да Ф.Ф. Зелинский… В 1905 г. Л.Н. Андреева с ними не было. Но когда в 1914 г. начал приводиться в исполнение всеевропейский план уничтожения России, средствами сначала Гинденбурга и Людендорффа, а потом их союзников – Ленина и Дзержинского, тогда Леонид Андреев оказался в числе прозревших – он рассмотрел то, что надвигалось на Россию.
Трагедия его, однако, была трагедией некоторых художников и философов, которые на меньших ужасах – не скажу на малых, нет, но именно на меньших – истощили весь запас своих реактивных сил так, что на максимальное зло сил у них не хватило. Сделав все что было можно, собрав все остатки своих догоравших энергий, «больной Россией», писатель бросил их на костер, на котором сгорала Россия, и сам вслед за этим сгорел. Россию он любил всеми силами своей души и, когда рассмотрел в революционере не друга, но лютейшего врага своей родины, врага низкого и гнусного, предателя – германского лакея, он задушил всенародно и печатно этого лакея, бросил всему миру, злорадствовавшему по поводу гибнущей России, свое знаменитое S.O.S., полное национальной гордости, сознания своего достоинства, сарказмов, – и ушел из этого мира с высоко поднятой головой. Во всяком случае, это был единственный русский писатель той позорной эпохи, который дерзнул заговорить таким тоном и такими словами от имени лежавшей в прахе и в злой корче красного безумия России, готовой уже отречься от своего имени и принять позорную кличку СССР. Некий наглец (что всегда неразрывно связано с глупостью) из распоясавшейся «Киевской мысли» обозвал смертную тревогу и невыносимую печаль «болевшего Россией» Леонида Андреева «злой корчей». Дело же обстояло как раз наоборот: вся Россия была в припадке злой корчи надвигавшегося большевизма. Никто не поднял голоса против – и лишь начинавшаяся белая армия и Леонид Андреев спасли в это ужасное время честь России. По внешней видимости оба потерпели неудачу. Но бывают жертвенные неудачи, которые выше и благороднее всяких удач «покрасневшего» унтера Пришибеева.