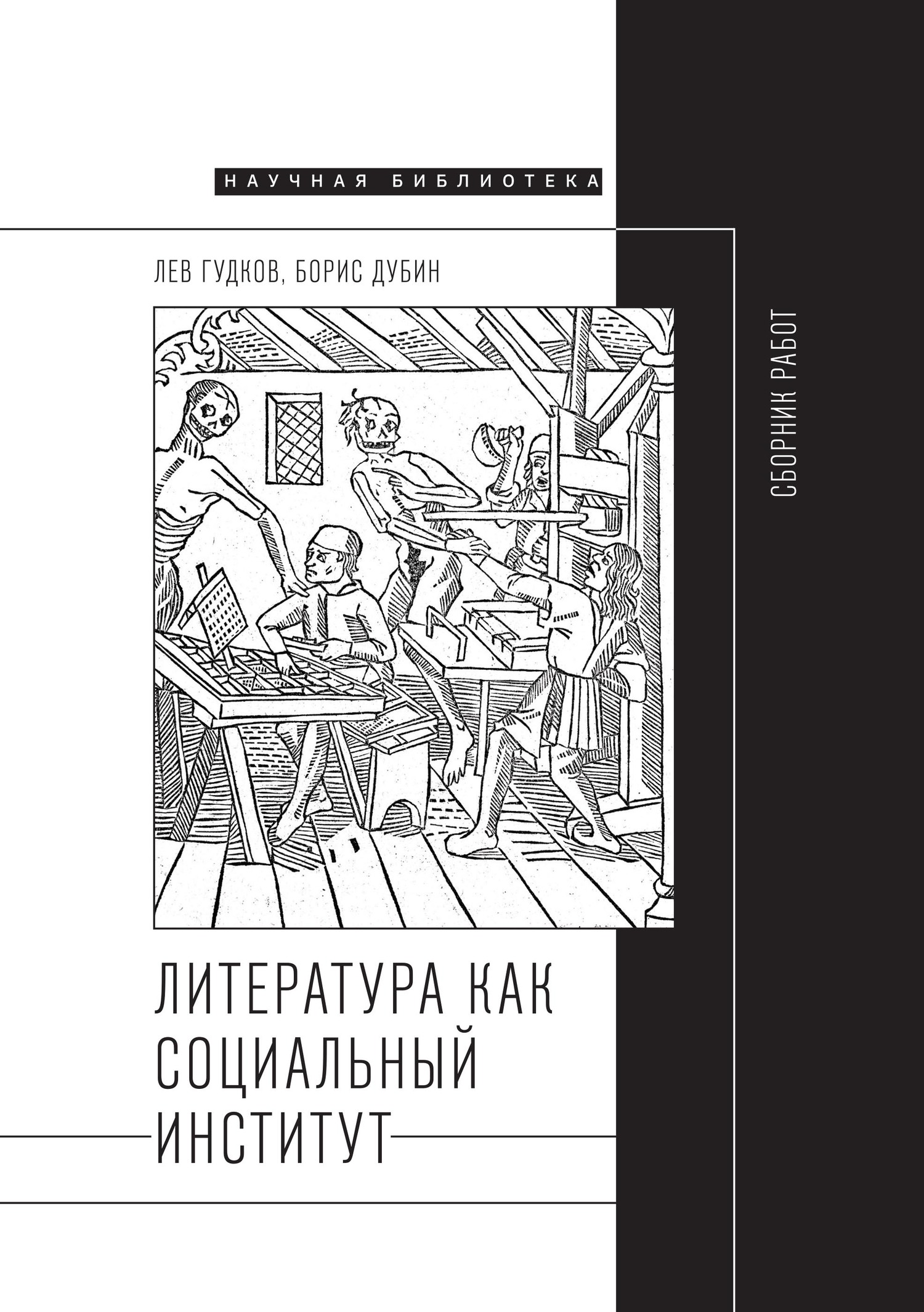впрямую не указаны инстанции авторской оценки происходящего. Изображение событий приобретает тем самым «безличный», «объективный» характер с однолинейным течением времени и т. п., а оценка ситуаций и героев непосредственно синтезируется с их качествами, предикатами их конституирования (стилизованный язык персонажей, отсутствие дистанции между прямой и косвенной речью, фиксированная ретроспекция и т. п.).
Именно указанная системность организации литературного произведения позволяет изучать его научными средствами. Как бы ни было многообразно богатство воображения того или иного писателя, действительность его вымысла в той или иной, но всегда значительной мере представляет субъективную перекомбинацию или организацию априорных, пред-данных ему (и в этом своем качестве доступных пониманию и анализу) общекультурных констант – размерностей и значений времени, правил мышления и выражения, стандартов этического и эстетического и т. п., – не затрагиваемых и не могущих быть затронутыми рефлексией автора. Этот факт является наиболее общим доводом в пользу возможности аналитического совмещения при изучении литературы когнитивных, экспрессивных и социальных планов текстовых значений, а следовательно, и плодотворности сравнительно-типологического анализа процессов их изменения.
Данная общая посылка открывает дорогу и корректному, т. е. методически эксплицированному, изучению литературы. Так, в частности, можно продемонстрировать основную функцию литературы – посредством тематизации ценностных альтернатив социокультурной системы представлять возможности их осмысления (а значит – контроля) и, таким образом, интегрировать членов той или иной социальной общности – на материале лишь временных размерностей. Претензии литературы, о которых говорилось выше, неизбежно связаны с характером конституирования соответствующих ценностных значений. Время изображения как диапазон значений простирается при этом от «бесконечно исчезающего» настоящего (максимальной проблематизации ценностей, их полной содержательной неопределенности) до предельных «исторических» точек, т. е. культурно-символических объективаций «исторического». Но «абсолютного» предела, значений вечности и связанных с ней трансцендентных (космологических, этических, религиозных) идей, литература, как и искусство в целом, достичь не в состоянии. Модальный статус эстетического обнаруживает здесь свое фикциональное (ограничивающее) значение, и в этом, в частности, раскрывается генетическая структура литературы как института, рожденного в определенной исторической социокультурной констелляции. Художник в иных случаях может наделяться функциями (или претендовать на роль) пророка, мессии, морального судьи или социального реформатора, но исполнить эту миссию без угрозы разрушения искусства и литературы ему не удается. Полноты действительности эстетическая мнимость приобрести не может, и в этом заключаются возможности как саморазрушения литературы (в авангарде, дидактике и т. п.), так и ее культурной адаптации к постоянному социальному изменению.
Кризис в литературе той же природы, что и в науке. В процессе «расколдовывания мира» определенные системы «материальной» рациональности все более интенсивно трансформируются в формальную рациональность. Так, в науке «истина» становится не содержательной догмой, а регулятивной идеей, методологическим принципом, что в целом приводит к невозможности обоснования инструментальным знанием фундаментальных жизненных ценностей. Другими словами, ни одна сфера конвенционального знания и выражения не может быть фундаментом мировоззрения и, соответственно, фундировать проблемы смысла жизни, поскольку оперирует историческими, содержательными значениями истины и красоты, релятивизирующимися в ходе последующей рефлексии. Устойчивыми при этом оказываются лишь их логические (культурные) формы – регулятивные идеи, по Канту – «пустые понятия без предмета созерцания».
История осмысления литературы начинается с первых стадий дифференциации литературной системы – формирования специализированной критики. На первых порах газетная и журнальная критика неотделимы от последующего систематического изучения литературы, ставшего позднее предметом преподавания в учебных заведениях и получившего академический характер в форме литературоведения. Длительное время это истолкование осуществлялось в ходе наблюдений и спекуляций над «сущностью» литературы, ее предназначением и необходимым кругом тем, сюжетов и т. п., что еще крайне близко к литературному манифесту. Неспециализированное сведение норм в замкнутую систему принципов, нормативных основоположений и правил того, что в совокупности составляет ту или иную «поэтику», «стилистику», короче, «канон» литературы («подлинную литературу»), не имеет иных идеологических форм легитимации нормы, кроме социокультурного механизма обычая или традиции, т. е. апелляции к «всегда бывшему» или – уже в эрозированной форме – к прошлому, к «истории». Подобная «история», разумеется, подвергнутая методологической рефлексии, представляет собой не что иное, как проекцию определенной «нормы» или канона на историю, т. е. специфический набор примеров, правил и т. п., подтверждающих значимую норму литературы определенного типа. Суггестивность этих концепций чрезвычайно велика, поскольку других средств методологической и аналитической рефлексии для современников не существует.
По своему логическому смыслу литературоведение представляет собой последовательную рационализацию ценностей, определяющих продуцирование (и, соответственно, оценку) литературных текстов, осуществляемую в процессе истолкования произведения. В соответствии с избранным подходом это открывает перед социологом возможность анализа литературного процесса через призму соответствующих структурных образований литературной социальной системы: институтов литературоведения (если таковые имеются) – исследовательских учреждений, специализированных журналов, академий с соответствующими изданиями и т. п., т. е. всего многообразия институционализированных форм производства, хранения и передачи систематически рационализируемого знания о литературе, в котором осаждаются и кристаллизуются исторически наличные системы знания и идеологий литературы. Понятно, что за каждой из систем стоит определенная социальная группа, претендующая на монополию авторитета, т. е. на специфически определенную, «сущностную» интерпретацию литературы.
Исторические границы подобного процесса рационализации литературы можно определить, фиксируя трансформацию самого характера рационализации – от содержательной к формальной, т. е. от упорядочения и анализа самих репрезентируемых в литературе ценностей к изучению форм их репрезентации, «литературности» как конститутивной характеристике культуры. Это значит, что последним символическим элементом современного литературоведения, удерживающим еще групповую солидарность литературоведов, является методическое единство анализа литературности, раскрываемое как конвенциональность правил легитимного для литературоведа построения («репрезентации») литературного текста – произведения. Или другими словами, специфический предмет современного литературоведения – экспрессивная техника эстетического конституирования текста. Если материальная рационализация произведения – его оценка – вначале была преимущественной задачей философии литературы, то позже подобная практика все больше становится уделом текущей критики или даже публицистики, что является симптомом дальнейшей дифференциации литературной системы. Правомочность философского толкования литературы поддерживалась претензиями литературы на выражении «сути» мира, «духа» времени (т. е. на статус «культуры» по преимуществу, о чем уже говорилось), но постепенно – параллельно с эрозией метафизических оснований самой философии и отказом ее от спекулятивности собственных суждений, от претензий на выражение «подлинных» оснований реальности – ослаблялся и интерес к литературософским толкованиям соответствующих произведений (см., например, критику Г. Риккертом соответствующих претензий философии «наук о духе» и его концепцию «наук о культуре», анализ процессов трансформации современной философии).
Основания, критерии оценки текущего литературного потока, которыми оперирует актуальная критика, могут быть разделены на два типа: 1) собственно литературная маркировка – предоставляемые критике литературоведением принципы первичной селекции литературных образцов, сопоставляемых с образцами литературных авторитетов («классики»), и 2) лежащие вне сферы собственно литературы, репрезентирующие в суждениях по поводу литературы (на литературном материале) иные подсистемы культуры или социальной системы. В этом случае оценка может носить дидактический, моральный, религиозный, социально-политический и т. п. характер, т. е. отмечать или постулировать непосредственно социализирующий характер литературных образцов или идеологические стремления контролировать их, тесно смыкаясь с системой социального контроля (или даже переходя в нее при известных условиях).
Но вернемся к литературоведению, точнее, к границе, после которой аксиоматические основания практики литературоведения все более теряют силу. Если в период предформирования литературы (в том смысле, в каком мы терминологически задаем ее здесь) в классицистских обоснованиях поэзии эстетическая сфера толковалась предельно высоко [69], поэт уравнивался с сакральным авторитетом или священнослужителем, то современное литературоведение – будь то в форме семиотики, структурализма, герменевтики, мифокритики в духе Н. Фрая или «новой критики», – сосредоточено на проблемах правил, структуры построения текста. Характерная ценностная посылка интерпретации: объективирующий взгляд на произведение как на ценностно равномерно наполненный объем, без выделения специфически отмеченных ценностных структурных узлов – героев, ситуаций и т. п. (текст, а не герой, не ситуация является объектом внимания). Тем самым центральными проблемами становятся проблемы анализа легитимной конвенциональности сочленения различных культурных значений в литературной структуре текста, обнаружение системы различным образом определенных норм действительности,