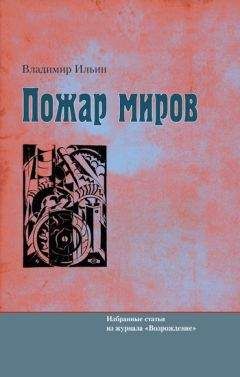Октябрьская революция, отвесно оборвавшая культуру, долгое время не могла даже усвоить себе общедоступной мысли о полезности «спецов». Ее жалким представителям приходилось целыми годами разжевывать и растолковывать ту простую мысль, что, например, тот, кто не умеет вывести математическую формулу, не сумеет и воспользоваться ею нужным для практики образом. И вообще, служба в качестве спецов была долгое время смертельно опасным делом, и неимоверное количество инженеров и профессоров увеличило собой многомиллионные гекатомбы октябрьской чеки. Когда, наконец, чуть ли не к третьему десятилетию со времени октября, мысль о пользе спецов была усвоена и частично освоена, когда появились в нужном количестве и свои собственные «спецы», стали, хотя в редких случаях, возникать люди с универсальными интересами. Это уже было нечто абсолютно недопустимое с точки зрения «октября», ибо означало рост духовно-личностного и свободного начала. «Спец» мог быть терпим. Универсальная свободная личность с неопределенным горизонтом интересов была абсолютно недопустима и подлежала немедленному срезу. Правда, в России и затем в СССР была в свое время личность, сочетавшая гениального «спеца» и гениального энциклопедиста. Это был отец Павел Флоренский. Его приходилось некоторое время щадить за его техническую полезность, но все время «обезвреживая» его в качестве гениального философа-метафизика-богослова. Когда же наконец «мавр сделал свое дело», мавр вынужден был уйти, вернее – «его ушли». При всем том Фаустовская жажда «бесконечной широты жизни» никак не унималась. Фаустовские головы срезались одна за другой, их донимали не мытьем, так катаньем, а они все же появлялись. Ибо, как говорит св. Иоанн Златоуст, «жизнь жительствует», а еще раньше его Платон в своем «Федоне» провозгласил онтологическую аксиому о неумирающей жизни и бессмертной душе. «Доктор Живаго» относится к этой же традиции. Люди «октября» несомненно мыслили себя, как «железный орден смерти», по удачному выражению С.С. Ольденбурга. Все духовно-живое встречало в них смертельного врага; со всяким подлинным проявлением жизни этот орден боролся истребительной войной. И все же, наконец, устали палачи, а не жизнь. И едва лишь первые признаки «палаческой усталости» обозначились в должной степени, как на литературном горизонте вспыхнуло пламя такой необыкновенной вещи, как роман Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго».
Само заглавие этого романа есть вызов, брошенный «имущему державу смерти, сиречь диаволу». Роман этот многогранен. В нем содержится и поэма странствующей и питающейся от странствования души – это русский Вильгельм Мейстер. Есть в нем и элементы русского Фауста – бесконечная жажда широты жизни и вечный рост интересов. Есть в нем пафос научного познания; но есть также артистическая жажда шедевра, проявляющаяся в лепке стихов; есть также и трепет живой религиозно-философской мысли, истоком своим имеющей тайники церковной культуры. Словом, все то, что «железный орден смерти» пытался в течение многих десятков лет придавить, исказить унизить, изуродовать, исторгнуть, раздавить, убить, – все это в буйно-жизненном порыве вырвалось наружу и пробилось сквозь безобразные пласты мертвого партийно-марксистского железобетона. Вещь хорошо известная: скромная слабая травка, нежные корешки едва вышедших из семени древесных початков способны взорвать и сломать самые крепкие скалы.
Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец —
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!
Сделан роман «Доктор Живаго» очень хорошо. В этом смысле он мог бы напомнить романы Гончарова: ладно скроен и крепко сшит. Морфология его вытекает из его «содержания» и идеологического костяка – и обратно. А это признак шедевра, мейстерштюка этого рода. Есть в нем и настоящая, сократо-платоническая диалектика: живой личности Доктора Живаго противостоит презренно бездарный вздор диамата. Причем Доктор Живаго (понимаемый как душа души романа и как сам его центральный герой) отлично понимает «светлых личностей», они же стоят перед ним с глупейшим видом как предпочитающий солому осел перед золотым слитком: и несъедобно, и тяжело, и неудобоваримо. Б.Л. Пастернаку одинаково хорошо удалась и человеческая личность в ее вечной форме, и смрадное ядовитое пойло в неудобосказуемой посудине, которую ему протягивают «грязные руки»: выпей и умри. Трагедия Сократа в удвоенном виде, ибо такой мерзости, как тоталитаризм XX века – в частности коммунизм, – еще миру и человеку не являлось, да и вряд ли когда-нибудь еще раз явится. По поводу этого подлинно диалектического противостояния, безобразной трупной мерзости и красоты живой жизни, можно сказать словами одного из персонажей романа, и эти слова, основа его внутренней и внешней структуры:
«Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку. Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич… Вы насмешка над этим миром, его оскорбление».
Конечно, слово «стиль» не подходит к «светлым личностям». «Стиль» означает человека, «светлые же личности» лишены личности, малейших человеческих черт. Однако с оговорками понятие «коммунистический стиль» все же может быть принято. Так, лишь во второй раз послов «Бесов» Достоевского в мировой литературе удалось передать это омерзительное «нечто», вселяющееся в свиноподобное человеческое стадо, в толпу – обязательно в толпу, и чтобы имя как толпе, так и тому «нечто» было «легион». Это «не я» и «не ты» и «не он» и «не они» – но «нечто», «оно» («das man» Мартина Гейдеггера).
Из щелей Дантова «Ада», из «бездны преисподней», из «шеола» вышло это «оно» – и от него надо бежать, покуда оно не испортит все окружающее. История этого бегства и есть динамика романа В.Л. Пастернака.
Неименуемому «оно» противостоит вечно женственное. В этом смысле можно сказать, что роман «Доктор Живаго» есть удавшаяся апология вечно-женственного. Собственно, две силы противостоят в романе смраду «змия»: Бог и жена, облаченная в солнце. Временами эту жену нельзя ни отделить, ни отличить от Церкви.
«Какая кротость, какое равенство Бога и жизни, Бога и личности, Бога и женщины» (с. 481).
Роман «Доктор Живаго» состоит из нескольких слоев. Первый и основной слой есть собственно биография главного героя и его странствования из Москвы в Сибирь и обратно, – странствования, несомненно символизирующего «жизнь человека». Второй слой относится к революционно-коммунистической экзистенции, отравившей мир и сделавшей непригодными к питью его воды. Как в Апокалипсисе, воды жизни и мира стали горьки и кровавы; «и воздух наполнился саранчой, жалящей, как скорпионы» (Апок. 8, 8–9; 10, 11; 9, 1–4). Третий слой – философия жизни и религии самого доктора. Четвертый слой – его научная профессиональная деятельность и, наконец, пятый и шестой слои – его любовь и поэзия.
По причине очень большого мастерства и безупречной техники, непринужденности, хотя и важности, рассказа все эти шесть слоев сплетаются и расплетаются очень легко, не мешают друг другу и составляют искусно сделанную партитуру, где каждый инструмент играет в нужном месте и свойственным ему образом. В самом романе вообще очень много музыкальности – особенно там, где переданы пейзажи, явления природы, любовь, религиозная жизнь. Первый том романа есть как бы прелюдия к готовящейся катастрофе, апокалипсическая острота которой переживается еще до ее пришествия. Она очень хорошо подготовлена и наступает как некая великая беда, сваливающаяся неизвестно откуда, но такая беда, которая не могла не наступить. Впрочем, здесь автору удалась антиномия. Выходит так, что в провиденциальный замысел вливается горечь и кровяной запах революции, но в то же время лица, которые несут ее с собой, совсем не автоматы, но ответственные, хотя и трагические, персонажи. Второй том романа как бы вделан в грандиозные рамки азиатской России – Сибири. Герой независимо от себя в качестве врача оказывается привлеченным к делу красных партизан, воюющих с Колчаком. Показана трагедия человеческой личности, размолотой между белым и красным жерновом и все же остающейся живой и неприкосновенной.
Как дикие призраки, как чудовища, словно вышедшие из повестей Гоголя, бродят и терзают друг друга потерявшие человеческий образ и впадшие в пароксизм предельного человеконенавидения безобразные тени. Жизнь неуклонно превращается в ад, вернее, в чистилище, ибо все же в каких-то неведомых глубинах «источник истины течет не заглушён». Автор незаметным образом и как бы едва слышным шепотом дает понять, что напрасны были попытки бежать от всепостигающих рук Божественного Провидения. «Страшно впасть в руки Бога живого» – Иовлевым воплем и с кровью сердца исторгается эта музыка из сердечных глубин главного героя и его окружения. Нет меча Божьего, проходящего между людьми, партиями, группировками. Вопреки неправедному суду человеческому Бог, как всегда, Своим мечом проходит по людям, а не между людей.