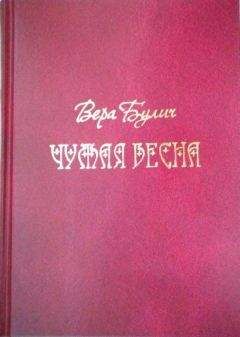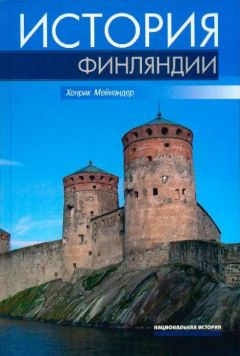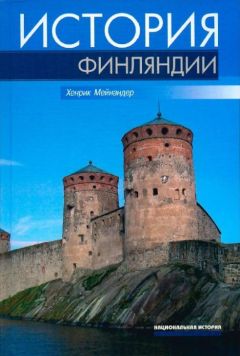«Живешь и копишь всякий сор…»
Живешь и копишь всякий сор,
Воспоминаний сор бумажный,
Всё то, что сердцу с неких пор
Казалось дорого и важно.
Стихи, наброски, дневники,
Программы, вырезки и снимки…
Как выбросить черновики
Вот эти, в карандашной дымке?
Концом легчайшего крыла
Их, может быть, коснулась Муза…
Но всё, чем я сама жила,
Моим наследникам обуза.
1950
1. «Твой голос горячий остался в мире…»
Твой голос горячий остался в мире,
Волной круговой разошелся в эфире.
…Сорвался камень, упал в глубину,
Волна, не догнав, догоняет волну
Кругами, всё дальше, кругами, всё шире…
Твой голос поет далеко в эфире,
Но так далеко, в такой вышине,
Что пенья уже не расслышать мне.
2. «Ты ушла. И не случилось мне…»
Ты ушла. И не случилось мне
Всё тебе сказать, что было надо.
Розовый рассвет стоял в окне.
На лицо твое легла прохлада…
………………………………………..
Тусклые, пустые дни идут.
Что за ним, за этим черным краем?
Есть ли там, где ты, душе приют,
Есть ли свет, какого мы не знаем?
Здесь у нас холодный ветер, осень.
Над твоей могилой листопад.
Мы еще у Бога силы просим,
В церкви свечки за тебя горят.
Не привыкнуть, сколько ни хожу,
К твоему молчанью гробовому.
Как я сердцу мертвому скажу
То, что не сказала я живому!
3. «Уж ты не сидишь за столом…»
Уж ты не сидишь за столом,
Смеясь, вместе с нами.
Твое лицо под стеклом,
Неподвижное, в раме.
Живу в пустой тишине,
И жить нелегко мне.
…И только твой голос во сне:
— Люби… помни…
И неужели не будет,
Не будет и тени блаженства,
Ни проблеска света во мгле
За эту мольбу о чуде,
За муку несовершенства
На черной слепой земле!
1950
Возвращаюсь утром на землю с тоскою.
Чернота. Будильник резко звонит.
Расплывается сон туманной рекою,
Только эхо вдали звенит.
Снова надо войти в этот воздух черный,
Надо в память войти, в каждый темный изгиб,
И согнуться под ношей своей покорно
Из невидимых каменных глыб.
Как принять этот мир, тяжелый и жесткий,
Где ни легкости, ни справедливости нет?
…Замирают далекого сна отголоски,
Бьет в глаза электрический свет.
1950
«Страницу можно вырвать из тетради…»
Страницу можно вырвать из тетради
И заново писать по белизне,
Всё переставив, переделав, сгладив…
А наша жизнь проходит вся вчерне.
Блеснет в сознаньи свет внезапно яркий,
Неверных слов и дел увидишь зло —
И не помогут поздние помарки,
Не пережить былого набело.
Я рукопись, отдавшись своеволью,
Без сожаления бросаю в печь.
Но то что сердце сдавливает болью,
Не вытравить, не вырвать и не сжечь.
1950
«Во сне я часто поднимаюсь в гору…»
Во сне я часто поднимаюсь в гору,
По круче, вверх, цепляясь и скользя…
С трудом ищу надежную опору,
И выбрать путь иной нельзя.
Нельзя откладывать на завтра тяжесть,
Быть может, завтра даст ее вдвойне.
Всё нужно преодолевать — и даже
Мучительный подъем во сне.
1950
Тяжко начало дня.
Мутный ноябрь в окне.
Желтые точки огня
В черной стене.
Все мы встаем в темноте,
Все мы бредем в слепоте.
Будем искать мечту,
Есть ли она или нет.
Нужно войти в темноту,
Нужно выйти на свет.
Не возражай, не перечь,
Стоит ли свеч…
Трудностей много в пути,
Счастье дается не всем.
Надо свой путь пройти,
Только зачем?
Замысел знать не дано.
Тускло светлеет окно…
1950
«Зеркальный вечер лежит на водах…»
Зеркальный вечер лежит на водах,
На дымно-розовых облаках.
По глади стеклянных вечерних вод
Отраженный поезд идет.
Другой по рельсам грохочет над ним.
Там люди сидят с багажом своим
И в будущий день из былой колеи
Перевозят надежды свои.
Колеса стучат, и дети кричат,
Плывет над насыпью угольный чад,
И право на будущий подвиг и грех
Проверяет кондуктор у всех.
А поезд-призрак бесшумен и пуст,
В нём воспоминаний невидимый груз.
Идет он в потерянную страну,
За черту, в мечту, в глубину.
Мне с шумным поездом не по пути,
Того, что мне дорого, в нём не найти.
Но тихо войду я, как входят в сон,
В отраженный последний вагон.
1950
«Войти в тот дом, которого уж нет…»
Войти в тот дом, которого уж нет
(Восходят в пустоту крыльца ступени),
Войти, переступив порог-запрет,
В тот дом, где обитают тени.
Взять за руку того, кто был живым,
И ощутить горячее запястье,
Войти, войти сквозь слезы и сквозь дым
В свое утраченное счастье.
Я вижу дом родной… Но это бред,
Ведь дом сгорел, к нему дороги нет.
А это ветер, тот, что мы любили,
Напомнив образы минувших лет,
Цветы качает на могиле…
1951
Иссохшим деревом стою
С кривыми черными ветвями.
Дупло рассекло плоть мою,
Подточен корень мой червями.
Среди поющих не пою,
Среди горящих не горю
И леденею под ветрами.
Я с черной птицей говорю:
— Покинь дупло, лети, мой ворон,
Туда, где воздух сжат и черен,
Где туча спит и копит мощь —
Огонь и ветер, гром и дождь.
Вернись ко мне с живой водою,
Чтобы с поющими мне петь,
Или же с огненной стрелою,
Чтобы с горящими сгореть.
1951
Воскресный день тревожил и томил
неугомонным ласточкиным криком,
горячим солнцем. пустотою улиц
и неба праздничною синевой.
На площади томился автобус.
И солнце, запертое в нём, лежало
тяжелыми и пыльными пластами
на кожаной обивке, на полу
и на коленях пассажиров. Пахло
бензином сладковатым, душной пылью,
нагретой кожей кресел и — в мечтах —
прохладными цветами полевыми.
Вспугнув гулявших мирно голубей,
взревел мотор и, сотрясая недра,
поплыл тяжелый автобус-ковчег,
вместив в себя и чистых и нечистых.
И было в нём спасенье для иных,
спасенье от душевного разлада,
сорокадневного потопа будней
и паутинной комнатной тоски.
А пригород бежал ему навстречу
домами, огородами, столбами,
поспешно полосующими небо
прозрачными рядами проводов,
где голоса неслышно, окрыленно
скользили в голубеющий простор,
оставив тело в будке телефонной,
ведя под небом тайный разговор.
В окно мелькнуло: дом, деревья, люди.
Один из них, прижав ружье к плечу,
застыл в сосредоточенном упоре:
он целится в невидимую цель.
И все вокруг него окаменели
под гнетом длительного ожиданья,
в молчаньи заколдованном стоят,
как нарисованные на картине.
И напряженье мне передалось,
мгновенным и необъяснимым током
пронизав тело. Затаив дыханье,
в тревоге нарастающей я жду —
Сейчас раздастся громкий, резкий выстрел,
как разрешенье страшной немоты,
и распадется на куски картина,
и всё придет в движенье. Автобус,
качнув на повороте, мчится дальше,
мелькают палисадники, дома…
Напрасно напрягаю слух, не слышно
ни выстрела, ни эха. Странной мукой
всё так же сковано всё тело. Пыль,
с дороги поднятая, бьется в окна…
…И кажется, что мы летим в тумане,
вращаются колеса в пустоте,
и никогда мы не достигнем цели,
обречены на вечное скитанье
в самих себе, в плену и в немоте,
с беззвучным голосом в тяжелом теле.
Среди чужих, случайный пассажир
томясь безвыходной судьбе в угоду,
я жду, когда откроется мне мир,
когда я выйду на свободу.
1938–1951