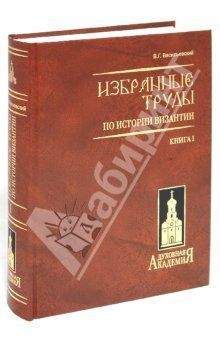Мало вам и этого – пред вами любовь предков наших. Как ни изношены у нас сердца, но запрос на любовь еще велик… и посмейтесь, пожалуйста, тому грамотею в глаза, который скажет вам, что в старину мужчины видели женщин только за налоем, что про любовь тогда не было и в помине. Видно, эти господа никогда не заглядывали в сердце человеческое; забыли они, что любовь есть не понятие, а чувство, свойственное всем векам и народам. Спору нет, она в старину была не так жеманна и мечтательна, но тем не менее нежна и страстна. Спору нет, предки наши женились через свах, не видя невест; но разве мы не женимся, не глядя на них, из расчетов и для приданого, как всегда бывало; а между тем любовь идет своим чередом. Говорят, знать наша запирала жен и дочерей, особенно со времен татарства; но неужели вы думаете, что замки, и стены, и кинжалы держат любовников даже у мусульман! Сказки! Тем паче у нас, у которых гостеприимный нрав и самая постройка домов тому противятся. Переберите наши песни и сказки, и вы убедитесь в том. Вот вам и вся лестница духовной иерархии, миротворная, редко честолюбивая сверху, невежественная и часто забавная снизу. Клирошане и причетники, бельцы и монастырские крестьяне, все со своим чванством, причудами, правами, в беспрестанном столкновении с мирянами: толпа своеличная даже до нищих, кликуш и юродивых, составлявших непременный штат каждой церкви! Юродивые занимали то же место между судьбой и народом, как шуты между владельцем и народом. Божьи люди эти были облечены неприкосновенности!!); их темные речи принимались за угрозы, за пророчества свыше. Вот вам и самосуд-вече в Новегороде и примерный суд его с присяжными, с объездным и судьями, с поединками, с русскою правдою – «поле», которого до сих пор никто не тронул. Вот вам лобное место пред Кремлем, с его правежем и гостинодворством. Садитесь на лихую тройку и поезжайте по святой Руси: у ворот каждого города старина встретит вас с хлебом и солью, с приветливым словом, напоит вас медом и брагою, смоет, спарит долой все ваши заморские пинтиранья и ударит челом в напутье каким-нибудь преданием, былью, песенкой. До сих пор вы видели только разносчиков, говорили только с извозчиками; теперь увидите бодрый, свежий, разноязычный, разнообразный, судя по областям, народ – народ, который мало изменился со времен Святослава, ибо татары и поляки мало имели дела с простолюдинами. Купцы торговали с ними, бояре ползали перед ними – народ только резался с ними или бегал от них и, заплатив раз в год черную дань сборщику, после не видал его в глаза[322]. В свою очередь он редко видывал и бар своих, всегда собранных около князей или царя, и оттого до сих пор сохранил свою поступь, поговорку, свой обычай, облик, свой оригинальный характер, которого основание – авось, свою безрасчетную предприимчивость, свое простовидное лукавство, свою страсть ко хмелю и к драке, свой язык, столь живописный, богатый, ломкий; словом, это народ, у которого каждое слово завитком и последняя копейка ребром… Но где мне исчислить все девственные ключи, которые таятся доселе в кряже русском! Стоит гению топнуть, и они брызнут, обильны, искролетны. Смешно и указывать ему: бери вот отсюда, сделай то-то; он сам найдет, что ему надобно, он пе пойдет справляться с риторикою или пиитикою… Словесность не наука, словесность искусство, ибо она творит, а не производит; а творчеству, а воображению закон не писан и никогда не напишется. Изящное всегда будет правильно. Вот почему нелепы попытки научить писателей писать; вот почему для словесности полезна лишь одна критика, ибо цель ее не поправлять автора, а приготовить читателя ценить его творение. Она не учит серинеткою[323] соловья петь, не учит молнию летать как бумажный змей, а дергает рассеянного охотника за полу и говорит ему: «Послушай, погляди, как эт, о прекрасно!» Она судит не как судья, по книге, а как присяжный, по совести, положив руку на сердце, и, даже ошибаясь, приучает вас судить прямо. Так и не более скажу я свое мнение о были Н. Полевого; не более, как так. Прочь от меня эта самозваная, щепетильная критика, которая до сих пор пропитывается у нас кавыками и недоглядками, которая с холодом бесчувствия смотрит на изящное и щупает его как евнух, покупающий невольницу на базаре. Была б у нее мягкая кожа, была бы в ней указная мера, а до ума, до души, до выражения лица что ему за дело! Misere[324]! И они хвалятся этим мизером, они выигрывают на него!
Г-н Полевой схватил для своей картины тот момент, когда Русь стала подымать голову из двухвекового рабства. Сквозь туман, но блестит уже над ней звезда единодержавия. Выход в Орду еще платится, но власть сидит уж не на ковре ханов. Удельная гидра еще грызется с царством, но это последние ее попытки. Действие начинается в деревне, невдалеке от Москвы, куда тянутся обозы, спеша к масленице и к свадьбе молодого великого князя Василья Васильевича Темного, который сел на княжение вопреки правам дяди своего Юрия Дмитриевича, уступившего первенство меньшому брату, Василию, но только брату по воле, племяннику по неволе, ибо на Руси искони велось (по праву, не всегда на деле), чтобы престол наследовать братьям, а не детям. Вот узел драмы, хоть ои вяжется и развивается в ней иначе и не вдруг. В избу, в которой расположились обозники, приезжает, под видом купца, крамольный боярин Иоанн. Он бежит из Москвы, обиженный отказом великого князя жениться на его дочери, на которой честолюбивый старик сосватал было его. Выезжая с ночлега, сани его сталкиваются с санями князей Василия Косого и Дмитрия Шемяки, детей Юрия, которые скачут на свадьбу, в гости к великому князю. После ссоры в потемках путники узнают друг друга, и тут-то, вопреки укоров Шемяки, начинается ков обиженного честолюбия в лице Иоанна, обиженного властолюбия в лице Косого. Боярин подстрекает пылкого князя и негодованием и надеждою. У него в кармане важные бумаги, у него в голове умпые советы, у него в груди месть Василию, который обязан престолом лишь его проискам у хана, – и все это он везет с повинною к Юрию, которого заставил недавно вести под уздцы коня отрока-племянника. Они расстаются, один готовый на измену, другой – на мятеж. Шемяка упрекает брата, что он слушает советов крамольника. Тот отвечает, что он обманул его притворным вниманием, что он только выведывал старика.
«– Ты обманул его? Но разве обман не есть уже грех? – говорит Шемяка.
– Отмолюсь! – смеясь отвечал Косой, отряхнув шапку свою. – Пойдем, пора».
Какая резкая черта, и в отношении к лицу Косого, и в отношении к понятиям времени!
В Москве уже подозревают Юрьевичей, и в то время, когда Косой подбивает удалых из князей себе в помощники, дума бояр, в которой хозяйничает мать великого князя, Софья Витовтовна, литвянка родом, безрассудная самовластница духом, решает схватить и заключить в оковы Косого и Шемяку при выходе с брачного пира. Венчанье кончено, новобрачные удалились из-за стола, и хмель, это единственное лето русских, расцвечает все характеры, расплавляет тайны. Нетерпеливая Софья привязывается к Юрьевичам, Косой колет ее не в бровь, а прямо в глаз, намекнув, что Василий незаконный сын ее; она забывается до того, что срывает своими руками с него меч, и укоряет, будто золотой поле его – краденый. Неистовая суматоха эта чуть не переходит в битву. Князья разъезжаются, мятеж вспыхивает. Юрий идет с войском на Москву; двор бежит. И снова племянник выгоняет дядю, и снова хилый, слабодушный старик, опершись о мечи смелых сыновей своих, завладевает Москвою, ссылает племянника на удел. Но в последний раз Кремль распахнулся перед ним гробом. В тот самый день, когда брат его Константин умирает в миру, приняв схиму, умирает и Юрий (оба остальные отрасли Донского), умирает на руках Шемяки. Покорный сын, Шемяка вскрывает духовную отца в совете бояр, в отсутствие брата, но в ней никто не назван великим князем. Великодушный Шемяка провозглашает снова Темного, Косой беснуется, укоряет брата и уезжает искать себе сторонников, чтобы отбить престол у Василия. Шемяка удаляется в удел свой Галич, как бы в довод того, что не искал благодарности, что он исполнил подвиг самоотвержения, уважая права наследства. Заехав в гости к князю Заозерскому, в глушь северных лесов, он влюбляется в дочь его, сватается и едет в Москву звать великого киязя к себе на свадьбу. Но подозрительный, неблагодарный Василий, воображая, что он заодно с Косым, велит схватить его на дороге обманом и заключить в тюрьму; потом вдруг переменяет политику, чтобы вернее погубить легковерного: мирится с ним, улещает его и дает ему пьяный, распутный, непокорный отряд, выживать из Тулы хана Махмета. Униженный, оклеветанный, обвиненный своими подчиненными в измене, Шемяка узнает, что брату его Василию выкололи глаза по приказу Темного, что его самого готовятся схватить для казни… Это опрокидывает его душу: он бежит в Новгород, где вече, всегдашняя подпора изгнанных князей, наряжает ему войско воевать Москву. Тогда испуганный Василий присылает к брату инока Зиновия, чтобы склонить его на примирение, чтоб выпросить у него мир на всей его воле. Убежденный, тронутый им, Шемяка уступает: он не хочет кровопролития и прощает кровную обиду. Тесть и невеста его, доселе пленные в Москве, объемлют его в Новегороде, – там он празднует свою свадьбу и едет в Галич. Были конец.