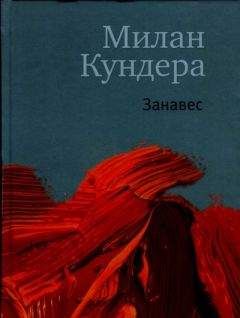Через каких-нибудь шестьдесят лет после «Бабьего лета» Кафка, еще один житель Центральной Европы, написал «Замок». Для Штифтера мир замка и деревни представлял собой оазис, куда старый Ризах бежал, пытаясь уклониться от карьеры крупного чиновника, чтобы наконец жить счастливо со своими соседями, животными, деревьями, со всеми «вещами, такими, каковы они есть». Этот мир, в котором разворачивается действие и других произведений Штифтера (и его учеников), стал для Центральной Европы символом идиллической и идеальной жизни. Этот самый мир, усадьбу с мирной деревушкой, Кафка, читатель Штифтера, застроил конторами, заселил армией бюрократов, завалил папками с бумагами! Он жестоко оскверняет священный символ антибюрократической идиллии, навязывая ей совершенно противоположное значение: тотальную победу тотальной бюрократии.
Экзистенциальный смысл обюрокраченного мира
Давно уже стал невозможен бунт какого-нибудь Ризаха, порывающего с жизнью чиновника. Бюрократия отныне вездесуща, от нее не скроешься нигде; нигде не найдешь «дом роз», чтобы поселиться там в тесном контакте с «вещами, таковыми, как они есть». Из мира Штифтера мы безвозвратно перешли в мир Кафки.
Когда прежде мои родители уезжали в отпуск, они покупали билеты на вокзале за десять минут до отправления поезда, поселялись в деревенской гостинице, где в последний день пребывания расплачивались с хозяином наличными. Они все еще жили в мире Штифтера.
Мои же отпуска проходят совсем в другом режиме: я покупаю билет за два месяца, выстояв очередь в туристическом агентстве; там какой-нибудь бюрократ занимается мной и звонит в «Эр Франс», где другие бюрократы, с которыми я никогда не соприкоснусь, предоставляют мне место в самолете и вносят мое имя под каким-нибудь номером в список пассажиров; номер в гостинице я тоже бронирую заранее, позвонив администратору, который отмечает мой заказ в компьютере и информирует об этом свою собственную маленькую администрацию; в день моего отъезда бюрократы профсоюза после переговоров с бюрократами «Эр Франс» объявляют забастовку. После многочисленных телефонных звонков с моей стороны и без всяких извинений (перед господином К. никто никогда не извинялся, поскольку администрация находится по ту сторону вежливости) «Эр Франс» возмещает мне стоимость авиабилета, и я покупаю билет на поезд; во время отпуска я повсюду расплачиваюсь банковской картой, и каждый мой ужин регистрируется парижским банком, и о нем становится известно другим бюрократам, например из налоговой службы или — в случае если меня подозревают в каком-нибудь преступлении — в полиции. Целый отряд бюрократов приходит в движение ради моего отпуска, а сам я превращаюсь в бюрократа собственной жизни (заполняя анкеты, посылая рекламации, разбирая документы в собственных архивах).
Различие между жизнью моих родителей и моей жизнью просто поразительно; бюрократией пропитана вся ткань моей жизни. «Никогда еще К не видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут, — они до такой степени переплетались, что иногда могло показаться, что служба и личная жизнь поменялись местами»[26] («Замок»). Сразу же все концепции существования изменили смысл.
Концепция свободы: никакой институт не запрещает землемеру К. делать то, что он хочет; но, обладая своей свободой, что, в самом деле, может он сделать? Что гражданин со всеми своими правами может изменить в своем ближайшем пространстве: в паркинге, построенном под его домом, в орущем громкоговорителе, установленном напротив его окон? Его свобода столь же ограниченна, сколь и бессильна.
Концепция личной жизни: никто не имеет намерения мешать К заняться любовью с Фридой, даже если она любовница всемогущего Кламма; однако за ним повсюду следует взгляд из замка, и за его половыми актами наблюдают и отмечают их; двое помощников приставлены к нему именно для этих целей. Когда К. жалуется на их докучливость, Фрида протестует: «Милый, а почему ты так настроен против помощников? У нас не должно быть от них никаких секретов, они люди верные». Никто не станет оспаривать наши права на личную жизнь, но она уже не такая, как была прежде: никакая тайна не защитит ее; так, где бы мы ни оказались, в компьютере остаются следы нашего пребывания; «у нас не должно быть от них никаких секретов», — говорит Фрида; мы даже не требуем больше тайны; личная жизнь уже не нуждается в том, чтобы быть личной.
Концепция времени: когда один человек противостоит другому, то противостоят и два равнозначных времени: два времени, ограниченных тленной жизнью. Да, сегодня мы сталкиваемся не друг с другом, а с администрациями, которые в своем существовании не знают ни юности, ни старости, ни усталости, ни смерти, оно протекает вне человеческого времени: человек и администрация проживают в двух совершенно разных временных потоках. Я прочел в одной газете банальную историю о мелком французском промышленнике, который разорился, потому что должник не заплатил ему долги. Он чувствует себя невиновным, хочет защиты у правосудия, но тотчас же отказывается от этого: его дело может быть разрешено лишь через четыре года; процесс продолжителен, жизнь коротка. Это напоминает мне торговца Блока из «Процесса» Кафки: его процесс тянется пять с половиной лет без всякого результата; тем временем он вынужден отойти от дел, поскольку, «когда хочешь что-то сделать для своего процесса, больше нельзя заниматься ничем» («Процесс»). Землемера К подавляет не жестокость, а бесчеловечное время замка; человек требует судебных заседаний, замок их отсрочивает; тяжба длится, жизнь заканчивается.
Затем, приключение; когда-то это слово выражало упоение жизнью, которое воспринималось как свобода; смелое индивидуальное решение приводило в действие удивительную цепь событий, свободных и решительных. Но эта концепция приключения не соответствует тому, что переживает К Он приезжает в деревню, потому что вследствие некоего разногласия между двумя канцеляриями замка ему была послана повестка. Не его воля, но административная ошибка запустила механизм приключения, не имеющего онтологически ничего общего ни с приключениями Дон Кихота, ни с приключениями Растиньяка. Вследствие безграничности бюрократического аппарата ошибки становятся статистически неизбежными; использование компьютеров делает их еще труднее устранимыми и еще более непоправимыми. В нашей жизни, где все распланировано, предопределено, единственно возможная неожиданность — это ошибка административной машины с непредвиденными последствиями. Бюрократическая ошибка становится единственной поэзией (черной поэзией) нашей эпохи.
К концепции приключения примыкает концепция битвы; К. часто произносит это слово, когда говорит о своей тяжбе с замком. Но в чем состоит эта битва? В нескольких бесполезных встречах с бюрократами и в длительном ожидании. Это не битва врукопашную; наши противники бестелесны: страховки, социальное страхование, торговая палата, правосудие, налоги, полиция, префектура, мэрия. Мы сражаемся, проводя много часов в канцеляриях, залах ожидания, архивах. А что ожидает нас в конце битвы? Победа? Иногда да. Но что такое победа? По свидетельству Макса Брода, Кафка представлял себе такое окончание для «Замка»: после всех этих хлопот К умирает от истощения; он находится на смертном ложе, когда (цитирую Брода) «из замка приходит решение, что права гражданства в этой деревне у него нет, но ему все же разрешено там жить и работать, учитывая определенные дополнительные обстоятельства».
Возрасты жизни, скрытые завесой
Перед моим мысленным взором проходят романы, которые я вспоминаю, и я пытаюсь определить возраст их персонажей. Как ни странно, все они оказываются моложе, чем в моей памяти. Это потому, что для своих авторов они олицетворяли скорее человеческую ситуацию в целом, а не ситуацию, свойственную определенному возрасту. По окончании своих приключений, поняв, что не хочет жить в том мире, который его окружает, Фабрицио дель Донго удаляется в монастырь. Мне всегда ужасно нравилось это окончание. Если не считать того, что Фабрицио еще слишком молод. Сколько времени человек его возраста, при всем своем разочаровании, сможет прожить в монастыре? Стендаль снял этот вопрос, позволив Фабрицио умереть всего лишь через год жизни в монастыре. Мышкину двадцать шесть лет, Рогожину двадцать семь, Настасье Филипповне двадцать пять, Аглае всего лишь двадцать, и именно она, самая юная, в конце разрушит своими неразумными поступками жизнь всех остальных. Однако незрелость этих персонажей не обсуждается как таковая. Достоевский разворачивает перед нами драму человеческих существ, а не драму юности.
Сиоран (Чоран), румын по национальности, в 1937 году, в возрасте двадцать шести лет, переезжает в Париж; десять лет спустя он издает свою первую книгу на французском и становится одним из крупнейших французских писателей своего времени. В девяностые годы Европа, некогда столь снисходительная к зарождавшемуся нацизму, мужественно и воинственно набрасывается на его тени. Наступает время великого сведения счетов с прошлым, и фашистские высказывания молодого Сиорана тех времен, когда он жил в Румынии, внезапно приобретают актуальность. Он умирает в 1995 году, в возрасте восьмидесяти четырех лет. Я открываю крупную парижскую газету: на двух страницах серия статей-некрологов. Ни единого слова о его творчестве; именно его румынская юность обескураживала, очаровывала, возмущала, вдохновляла этих надгробных писарей. Они облачили труп большого французского писателя в румынский фольклорный костюм и заставили из гроба поднять руку в фашистском приветствии.