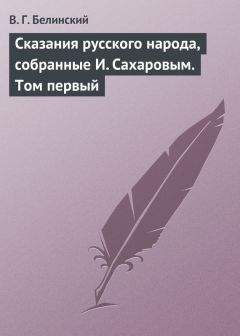Теперь мы знакомы с тремя богатырями Владимира. Последний выше первых двух – не правда ли? В нем и ум, и сметливость, и богатырская рьяность, и прямота силы и храбрости, на себя опирающейся. Если Дунай не совсем вежливо и далеко не по-рыцарски обошелся с Настасьей королевишной – это не его вина: тут выразилось сознание целого народа о любви и об отношениях полов. Сама Настасья не видит ничего странного или обидного для нее ни в том, что Дунай бил ее по щекам и потчевал пинками, ни в том, что он чингалищем булатным хотел вспороть ей груди белые: она с тем и отпросилась у батюшки, что кто ее в поле побьет, тот и за себя замуж возьмет. Колоченая посуда два века живет – русский человек свято верит глубокой мудрости этой киргиз-кайсацкой пословицы и потому других бьет – не кается, и самого побьют – не гонится. Притом же если б Настасья одолела Дуная, – она не задумалась бы вспороть ему груди белые чингалищем булатныим. В Настасье королевишне осуществлен идеал амазонки по понятию русского человека. Жена богатыря должна рождать богатырей, а для этого сама должна быть богатырем своего пола. Поэтому Настасья и мастерица такая из лука стрелять, что за версту сшибла кольцо с головы мужа. Отношения полов, по народному сознанию, всего лучше выражаются в смерти Настасьи. Все богатыри хвастливы, особенно в русских сказках; все богатыри любят подпить, особенно русские: потому не удивителен вызов Дуная состязаться с женою в стрельбе. Просьбы других, слезы жены только более подстрекают его богатырскую рьяность и раздражают упорный характер. Убив жену, он спешит вспороть ей белые груди: ни слезы, ни вздоха для нее; но при виде сына, которому он не дал своею опрометчивости») созреть настоящим образом, в нем пробуждается отеческое, а следовательно, и человеческое чувство. Печаль его переходит в отчаяние, разрешающееся самоубийством. Обстоятельство, по которому приписывается быстрому Дунаю его имя, заключает в себе много поэзии, и простые, безыскусственные стихи:
Потому быстра река Дунай словет —
Своим устьем впала в сине море —
дышат каким-то успокоительным и примирительным чувством; в них высказывается широкое, хотя и совершенно неопределенное созерцание.
Каким образом Настасья королевишна могла разъезжать по полям, ища, кто бы побил ее и женился на ней, в то время как сестра ее Афросинья сидела взаперти, за двенадцатью булатными замками; каким образом Афросинья королевишна превращается, ни с того ни с сего, в княгиню Апраксеевну, которая Дуная называет зятем, а Настасью – сестрою, – об этом нечего и спрашивать у сказки. И неужели все жены Владимира превращались в Апраксеевну?.. Не забудьте притом, что в предшествовавшей поэме Апраксеевна уже отличалась с Тугарином Змеевичем; она не могла видеть Екима прежде замужства Афросиньи, а между тем Еким видел ее прежде, чем увидел Афросинью: стало быть, Владимир называл себя холостым и хотел жениться от живой жены, а Афросинья превратилась в Апраксеевну для того, чтоб избавить Владимира от греха двоеженства?.. Вот тут и извольте составлять одну целую поэму из народных рапсодов!..
* * *
Читатели, конечно, заметили в предшествовавшей поэме, когда Дунай просит платья для своей жены, следующие стихи:
А втапоры Владимир-князь он догадлив был,
Знает он кого послать:
Послал он Чурила Пленковича
Выдавать платьице женское цветное.
Стало быть, где касалось дело до чего-нибудь женского, Чурила Пленкович был на своем месте? Оно так и есть, как мы сейчас увидим. В лице Чурилы народное сознание о любви как бы попротиворечило себе, как бы невольно сдалось на обаяние соблазнительнейшего из грехов. Чурило – волокита, но не в змеином роде. Это молодец хоть куда и лихой богатырь. Но он нисколько не противоречит нашему взгляду на сознание народное о любви. Крайности сходятся; в фанатической Испании бывали примеры вольнодумства, а в Риме иерархия встретила себе оппозицию прежде, чем в самой Германии{135}. В этих случаях должно брать в соображение перевешивающий элемент, а в исключительных явлениях видеть или случайности, или возможность – в будущем вступления в свои права и даже перевеса противоположного элемента. И потому мы смотрим на Тугариных, как на нечто положительное, действительное и настоящее в жизни древней Руси; а на Чурилу – как на факт, свидетельствовавший о возможности в будущем другого рода любовников, как на новый элемент жизни, только подавленный, но не несуществующий.
Думая, что мы уже довольно познакомили читателей с манерою и слогом поэмы, расскажем о Чуриле своими словами и короче{136}.
Во время столования Владимира к нему являются незнаемые люди, человек за триста избитых, израненных молодцов:
Булавами буйные головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны,
Бьют челом, жалобу творят.
Это стрельцы княжие; целый день они рыскали по займищам и не встретили ни одного зверя, а встретили триста молодцов, которые зверей всех повыгнали и повыловили, а их перебили и переранили, и оттого «князю добычи нет», а им жалованья нет, «дети, жены осиротели, пошли по миру скитаться».
А Владимир-князь стольный киевский
Пьет он, ест, прохлаждается,
Их челобитья не слушает.
Не успела эта толпа сойти со двора – валит другая. Это рыболовы: с ними та же история.
А Владимир-князь стольный киевский,
Пьет он, ест, прохлаждается,
Их челобитья не слушает.
Не успела и эта толпа свалить со двора – валят вдруг две новые: то сокольники и кречетники. И с ними то же. Против других, они прибавили в своем челобитье, что ограбившая и прибившая их ватага называется дружиною Чуриловою. Тут Владимир-князь за то слово спохватится: «Кто это Чурила есть таков?» Выступался тут старый боярин Бермята Васильевич:
«Я-де, осударь, про Чурилу давно ведаю,
Чурила живет не в Киеве,
А живет он пониже малого Киовца.
Двор у него на семя верстах,
Около двора железный тын,
На всякой тынинке по маковке,
А и есть по жемчужинке, —
Середи двора светлицы стоят,
Гридни белодубовые,
Покрыты седым бобром,
Потолок черных соболей,
Матица-то валженая,
Пол середа одного серебра,
Крюки да пробои по булату злачены.
Первые у него ворота вальящетые,
Другие ворота хрустальные,
Третьи ворота оловянные».
Итак, Чурила Пленкович – щеголь, франт, живет, как сатрап восточный. Владимир-князь едет к нему со двором своим, в числе пятисот человек. Встречает их старый Плен; для князя и княгини отворяет ворота вальящетые, а князьям и боярам – хрустальные, а простым людям – ворота оловянные. Пошло столованье великое – веселая беседа, на радости день. Увидев в окно толпу людей, князь говорил таково слово:
«По грехам надо мною князем учинилося,
Князя меня в доме не случилося,
Едет ко мне король из
Орды Или какой грозен посол».
Старый Пленка Сароженин только усмехается, сам потчевает и говорит, что то не король и не посол едет, а едет-де дружина хорабрая сына его, молода Чурилы Пленковича. К вечеру, когда пир был во полупире, а и стол был во полустоле[22], едет сам Чурила Пленкович, а перед ним несут подсолнечник, чтоб не запекло солнце бела его лица. Брал он, Чурила, ключи золотые, ходил в подвалы глубокие, вынимал золоту казну: сорок сороков черных соболей, другую сорок печерских лисиц и камку белохрущату, а цена камке сто тысячей; приносил он ко князю Владимиру, клал перед ним на дубовый стол.
Втапоры Владимир-князь стольный киевский
Больно со княгинею возрадовалися,
Говорил ему таково слово:
«Гой еси ты, Чурила Пленкович!
Не подобает тебе в деревне жить,
Подобает тебе, Чуриле, в Киеве жить, князю служить!..»
Втапоры Чурила князя Владимира не ослушался. И вот они в Киеве; посылает князь Чурилу князей и бояр в гости звать к себе, «а зватого приказал брать со всякого по десяти рублев». Обходя гостей звать, Чурила зашел ко старому боярину Бермяте Васильевичу, ко его молодой жене, к той Катерине прекрасный, – и тут он позамешкался. Князь Владимир то замешканье ему ни во что положил. Пошло столованье и пированье. Когда на другой день рано поутру князи и бояре к заутрени пошли, – в тот день выпадала пороха снегу белого – и нашли они свежий след, сами они дивуются: либо зайка скакал, либо бел горностай.
А иные тут усмехаются, сами говорят:
«Знать это не зайка скакал, не бел горностай,
Это шел Чурила Пленкович
К старому Бермяте Васильевичу,
К его молодой жене Катерине прекрасныя».
Чурила Пленкович выдается из всего круга Владимировых богатырей: это, так сказать, самая гуманная личность между ими, по крайней мере в отношении к женщинам, которым он, кажется, посвятил всю жизнь свою. И потому в поэме о нем нет ни одного грубого или сального выражения; напротив, его отношения к Катерине прекрасной отличаются какою-то рыцарскою грациозностию и означаются более намеками, нежели прямыми словами. В первый раз он позамешкался у молодой жены старого Бермяты; во второй раз тайна его посещения выдается предательскою порошею и оглашается не его хвастовством, а речами других, и речами, против обыкновения, умеренными, даже поэтическими. За Чурилу можно поручиться, что он не стал бы ломаться над жертвою своего соблазна, не стал бы хвастаться победою во честном пиру; тем более можно поручиться, что он не стал бы бить женщину по щекам или толкать ее пинками – «женский-де пол от того пухол бывает». А между тем он не неженка, не сентиментальный воздыхатель, а сильный могучий богатырь, удалой предводитель дружины храброй. Конечно, он смешон, когда перед ним, вместо китайского зонтика, несут подсолнечник{137}, чтоб не загорелось от солнца его лицо белое; но он смешон грациозно: он женский угодник, который дорожит своею наружностию, а не неженка запечный, не беззубый и безкогтный лев нашего времени.