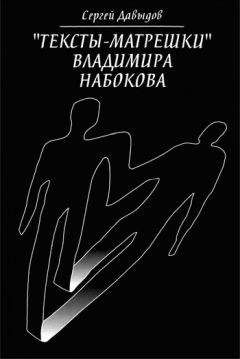Но даже когда Цинциннату удается, как жемчужину в глубинах вод, найти и схватить искомое слово, «извлеченное на воздух», оно «лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине» (IV, 101). Таким образом, как «перл в кровавом жиру акулы» (IV, 98), так и «мелькнувший блеск на песчаном дне» (IV, 102) сводятся к понятию поэтического слова, «слова-психеи».
Вопреки приближающейся казни у Цинцинната нет «никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться — всей мировой немоте назло» (IV, 99). Здесь можно привести еще одно интересное сопоставление с гностицизмом. Согласно валентинианцу Марку, «конец видимого мира наступит тогда, когда будут исчерпаны все возможные сочетания звуков и букв… и все произносимое (т. е. все получившее Божественный импульс к существованию) сольется в один конечный звук, подобно тому, как человеческая молитва заканчивается общим возгласом: аминь».{211}
Попытки Цинцинната пробиться к «живому слову» чрезвычайно неловки, но иногда под его пером возникают необыкновенно точные детали, удивительно меткие, двумя штрихами набросанные портретные миниатюры, как, например, описание Марфиньки в пятой главе:
Я уже не могу собрать Марфиньку в том виде, в каком встретил ее в первый раз, но, помнится, сразу заметил, что она приоткрывает рот за секунду до смеха, — и круглые карие глаза, и коралловые сережки, — ах, как хотелось сейчас воспроизвести ее такой, совсем новенькой и еще твердой, — а потом постепенное смягчение, — и складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мне, уже потеплевшая, почти живая. Ее мир. Ее мир состоит из простых частиц, просто соединенных; простейший рецепт поваренной книги сложнее, пожалуй, этого мира, который она, напевая, печет, — каждый день для себя, для меня, для всех.
(IV, 80–81)
В статье «Слово и культура» (1921) Мандельштам написал:
Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.{212}
Эти слова поэта можно отнести к Цинциннату, который у нас на глазах из слова создает Марфиньку и вокруг неё его слово «блуждает, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела».
У Цинцинната порою встречаются на редкость смелые сравнения и метафоры, как, например, уже упомянутый «перстень с перлом в кровавом жиру акулы» (IV, 98), напоминающий о балладе Шиллера «Поликратов перстень», или «шарообразные рыбы» слов, лопающиеся при извлечении на воздух. Его стиль кишит дерзкими аллитерациями, как, например, в описании Марфиньки, которая «жмурясь, пожирала прыщущий персик» и «глотая, еще с полным ртом, каннибалка, топырила пальцы, блуждал осоловелый взгляд, лоснились воспаленные губы…» (IV, 132). Здесь варьируются группы (ж-р, п-ж-р, п-рс) и (ла, ол, ал, ла, аль, ал, ел, ля, ла, ли, ал).{213}
Тем не менее Цинциннат постоянно ставит под сомнение художественность этих неровных, но весьма талантливых строк:
Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удавленных слов, как висельники… вечные очерки глаголей, воронье… Мне кажется, что я бы предпочел веревку, оттого что достоверно и неотвратимо знаю, что будет топор…
(IV, 99)
Цинциннат не только разделяет участь своих слов, своего творчества — он полностью отождествляет себя с ними. Личная судьба отступает для него на задний план, не о ней печется герой накануне казни:
…у меня лучшая часть слов в бегах и не откликаются на трубу, а другие — калеки. Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов и, постепенно, столбовой дорогой связных понятий, дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами…
(IV, 175)
Но Цинциннат одновременно догадывается, в чем заключается достоинство истинно поэтического слова-Психеи:
Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражалось в нем и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи. Не тут! Тупое «тут», подпертое и запертое четою «твердо», темная тюрьма, в которую заключен неумело воющий ужас, держит меня и теснит.
(IV, 101)
Оживающее слово, о котором здесь говорится, — не что иное, как авторское слово, и характеристику, которую ему дает Цинциннат, можно всецело отнести к стилистическому методу самого Набокова. Таким образом оппозиция «тут» и «там» наполняется еще одним смыслом. «Тут» принадлежит тюремному слову Цинцинната, в то время как «там» относится к свободному художественному слову автора:
Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем, — и вновь раскладывается ковер, и живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, без конца…
(IV, 101)
Эти слова Цинцинната о ткани времени Набоков повторит в «Других берегах» («Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтоб один узор приходился на другой» — V, 233), а также в «Парижской поэме»:
В этой жизни, богатой узорами…
<…>
…я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое — на прежний узор…
(V, 425)
Сосуществование героя и автора в романе — как соприкосновение «тематических узоров» на словесном материале двух текстов находит свое выражение в метафоре материи и подкладки. Так, например, рассуждая о побеге и спасении, Цинциннат возлагает все надежды на собственное воображение. Но одновременно ему кажется, «что еще кто-то об этом печется… Какие-то намеки… Но что, если это, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом…» (IV, 114), Цинциннат ставит под сомнение существование неизвестного спасителя (автора?). При встрече с матерью герою показалось, что в выражении ее глаз «словно завернулся краешек этой ужасной жизни, и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и от всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать» (IV, 129). В предпоследней главе Цинциннат «обнаружил дырочку в жизни, — там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым, значительным и огромным…» (IV, 174). Ключевые мотивы, на которых развивается этот «тематический узор» — «складка», «подкладка», которую Цинциннат, живущий на оборотной стороне материи, увидел сквозь «дырочку». Это и есть стежка, сшивающая два текста: героя и автора — точка соприкосновения двух «тематических узоров», двух словесных тканей, или пуповина, связующая первоотца-автора через мать Цецилию с героем Цинциннатом. («…поэт Цинциннат Ц. в самом грезоподобном и поэтичном из моих романов обвиняет собственную мать (не вполне заслуженно) в том, что она — пародия…» — говорит Набоков в одном из интервью).{214}
Цинциннат постепенно догадывается, что над его ограниченным и неполноценным творческим миром, который реализуется «тут», существует другой творческий мир автора — «там», откуда «неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд» (IV, 101), а не премудрое око Божие.
Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались, там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик…
(IV, 101–102)
Мотив зеркала появляется и в другом месте, где передвижение Цинцинната «по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры» сравнивается с «бегущим отблеском поворачиваемого зеркала» (IV, 119). К числу «зеркальных» метафор можно, наконец, отнести и небезызвестные игрушки «нетки», состоящие из набора абсолютно уродливых и нелепых предметов, которые полагалось рассматривать в кривом зеркале. В зеркале «нет на нет давало да» (IV, 129) и уродливые штуки преображались в изящные образы.
Можно было — на заказ — даже собственный портрет, то есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но ключ от вас был у зеркала.
(IV, 129)
Обнаружив механизм поворачиваемого в руках автора зеркала, Цинциннат начинает сомневаться в реальности собственного существования, своих любви и страдания, а также в реальности всего окружающего. Он начинает осознавать призрачность своей жизни в качестве персонажа в чужом романе и, следовательно, отдавать себе отчет в неполноценности собственного творения. «Пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт» (IV, 100), весьма кстати замечает Цинциннат, отождествив себя с персонажем романа и уступив авторское место настоящему творцу.