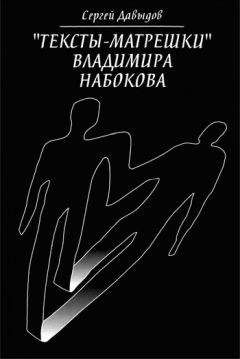…замысел романа закреплен в моем воображении накрепко, и каждый персонаж следует тем путем, который я для него навоображал. Я в этом частном мире — абсолютный диктатор, поскольку только я один и отвечаю за его прочность и подлинность.{217}
В «Приглашении на казнь» настоящий тюремщик — автор. Рядом с ним фигуры Родрига, Родиона и м-сье Пьера кажутся жалкими карикатурами. Это он, всевластный владелец вертепа, окружил в своем кукольном романе Цинцинната стенами «кое-как выдуманной камеры» (IV, 119), понастроил изысканные лабиринты, приставил к его камере стражников и разыграл в своем вертепе на глазах у Цинцинната кошмарную мистерию-буфф, издевательский valse macabre.[15] (Ср. «тур вальса» (IV, 48), который предложил Цинциннату тюремщик Родион в начале романа, или само галантное название романа, который, кстати, должен был называться «Приглашение на отсечение головы»).{218}
Гоголь когда-то писал о «припадках тоски», с которых начинался у него творческий процесс:
На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой … Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза.{219}
Эти строки, перекликающиеся с «умственным распутством» Иудушки из «Господ Головлевых», о котором я писал в связи с героем «Отчаяния» Германом, можно отнести и к Набокову. С такого «припадка тоски» начинается, по-моему, творческий порыв самого Набокова, а вслед за ним то же происходит с Цинциннатом. Вспомним еще раз первые, подсказанные автором, строки в четвертой главе: «Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат…» (IV, 71), и ответ Цинцинната на этот вызов: «Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, — что мне делать с тобой, с собой?» (IV, 74). Что же делает автор? Чтобы развеять тоску, сочиняет свой мир и начинает играть в человечки.
Если здесь провести параллель с гностическим мифом, роль автора в мире-романе совпадет с ролью демиурга, архонта; следовательно, тюрьма, «мертвый дом», созданный в романе, — это сама книга «Приглашение на казнь». В ней заключен Цинциннат, и его бунт — бунт гностика, усомнившегося в подлинности мира, бунт против творения, против демиурга, в котором прозревший Цинциннат обнаружил человеческое существо. «Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд» (IV, 101), а не премудрое око Божие.
В этом контексте заманчивой представляется идея, что добивающийся бессмертия Цинциннат не может умереть, поскольку он только персонаж романа и как таковой никогда не жил, кроме как на страницах книги, в то время как единственное смертное здесь существо — сам автор. Посмотрим, каким образом Цинциннат формулирует эту ехидную шутку. Читая роман «Quercus», Цинциннат
…начинал представлять себе, как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в Северном, что ли, море, сам будет умирать, — и это было так смешно, — что вот когда-нибудь непременно умрет автор, — а смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным была всего лишь смерть, — неизбежность физической смерти автора.
(IV, 121){220}
Автор, «человек еще молодой», может быть, — сам Набоков, а «остров в Северном море» находится на той же карте, где и набоковские Зоорландия («Подвиг»), Ultima Thule («Ultima Thule», «Solus Rex»), Зембла («Бледное пламя»).{221} Цинциннат смеется над физической природой писателя — смертного человека. В романе «Бледное пламя» поэт мнит себя бессмертным и отрицает аристотелевский силлогизм: «…другие смертны, да, / Я — не „другой“: Я буду жить всегда»,{222} а затем его ревнивый комментатор Чарльз Кинбот на цинциннатовский манер замечает, что это «годится разве мальчику в утешение. С течением жизни мы понимаем, что мы-то и есть эти „другие“».{223} В бунте Цинцинната против тирании творения, против демиургического начала автора-творца можно услышать гностический отзвук 81 (82) псалма.{224}
Подведем некоторые итоги. Я попытался дать характеристику гностического мифа и провести ряд параллелей между ним и романом. Затем я старался показать, каким образом перекодирован этот миф в художественной системе романа. В книге о Гоголе Набоков писал:
…под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи.{225}
В своем «уродстве-юродстве» Набоков добивается именно такого иррационального мистического эффекта. Ему удается создать ощущение метафизической реальности, мистического прозрения и опыта чисто литературными, «рациональными» средствами. На основе теологического гностического мифа Набоков создает свой собственный миф, воспроизводящий модель романа. При этом автору выпадает двойная роль. Первая из них — роль посланника Бога, провозвестника и спасителя. Вторая — роль творца-демиурга, архонта, деспотического властелина и владельца этого мира. Может быть, в дуалистическом совмещении двух принципов «добра и зла» (напомним слова Б. Зайцева: «У Сирина нет Бога, а может быть, и дьявола») таится библейская идея испытания или же, в контексте романа, идея испытания героя автором. Проследим эту дуалистическую линию до конца.
Согласно многим эсхатологическим мифам гностиков, демиург уничтожает свое творение:
Господи, дай мне разрушить мир, который я сотворил.
Или:
Она <Руха> поднялась и уничтожила свое владение.{226}
В апокалипсическом конце романа, в момент казни Цинцинната Первого, автор-демиург уничтожает сотворенный им мир. Роман разрушается, потому что прозревший последний гностик Цинциннат не поверил в бутафорскую действительность этого мира, и автор жестом демиурга разбирает сцену своего романа. Этот жест заставляет вспомнить последние строки стихотворения Ходасевича «Горит звезда, дрожит эфир…»:
И я творю из ничего
Твои моря, пустыни, горы,
Всю славу солнца Твоего,
Так ослепляющего взоры.
И разрушаю вдруг шутя
Всю эту пышную нелепость,
Как рушит малое дитя
Из карт построенную крепость.{227}
Но из трухи рухнувшего мира-романа «сын словес», провозвестник и спаситель Владимир Набоков (само имя рифмуется с «redeemer», как он в шутку поясняет в одном из интервью){228} спасает «Цинцинната Второго», Цинцинната избранника, одухотворенного пневмой поэтического вдохновения, выдержавшего до конца авторское испытание. «Цинциннат Второй» поднимает голову с дубовой плахи и сквозь «сухую мглу» направляется «туда», «где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему» (IV, 187) и, можно добавить, подобные не только ему, но и его автору. Персонаж романа возвращается к своему творцу. Таким образом, вдобавок к той доле творческого вдохновения, таланта и свободы, которую Цинциннат унаследовал от своего отца-творца в начале романа, Цинциннат отвоевывает в конце книги и долю писательского бессмертия. В эпиграфе из несуществующей книги — «Discours sur les ombres» вымышленного писателя Delalande «Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels» — заключается послание автора.
Творец-поэт лишь одной стороной своего существа — человек, смертный. Другой, трансцендентальной, стороной поэт — auctor — приближается к бессмертному существу, Богу. В художественной системе Набокова поэт-творец — антропоморфное божество, «человекобог».{229} Об этом аспекте сиринского творчества В. Ходасевич, мнением которого Набоков всегда дорожил, написал так:
Сознание поэта, однако ж, двоится: пытаясь быть «средь детей ничтожных мира» даже «всех ничтожней», поэт сознает божественную природу своего уродства-юродства — свою одержимость, свою, не страшную, не темную, как у слепорожденного, а светлую, хоть не менее роковую, отмеченность перстом Божиим…
В художественном творчестве есть момент ремесла хладного и обдуманного делания. Но природа творчества экстатична. По природе искусство религиозно, ибо оно, не будучи молитвой, подобно молитве и есть выраженное отношение к миру и Богу. Это экстатическое состояние, это высшее «расположение души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных», есть вдохновение. Оно и есть то неизбывное «юродство», которым художник отличен от не-художника. Им-то художник и дорожит, его-то и чтит в себе, оно-то и есть его наслаждение и страсть. Но вот что замечательно: говоря о вдохновении, о молитвенном своем состоянии, он то и дело сочетает его с упоминанием о другом занятии, сравнительно столь, кажется, суетном, что здоровому человеку самое это сочетание представляется недостойным, вздорным, смешным. Однако этим своим занятием он дорожит не менее, чем своим «предстоянием Богу», и порой вменяет его себе в величайшую заслугу, обосновывая на ней даже дерзостную претензию на благодарную память потомства, родины, человечества.{230}