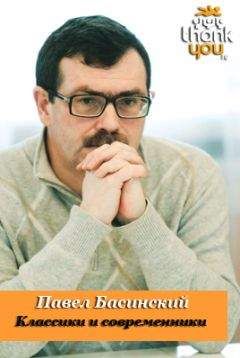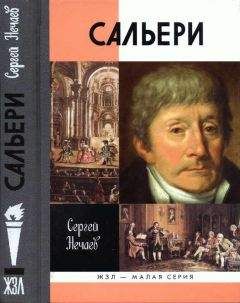Пороховой привкус остался и в «Шёпоте». «Вернулся муж с большой войны. / Ушла родня, все гости тоже, / И слушал он шаги жены, / Уже в постели мягкой лёжа. // В буфет посуду убрала, / Поднять окурок наклонилась, / Сняла скатёрку со стола / И наконец угомонилась. // Шинели тронула рукав, / Щекой припала, вся зарделась, / Потом прошла за старый шкаф, / Свет погасила и разделась». Между прочим, это именно эротические стихи, причем с таким мощным зарядом спрессованного эротического предчувствия, о котором сказать прозой было бы пошлостью (только Андрею Платонову удалось это поднять на невероятную высоту в рассказе «Возвращение»).
Но в книге много и просто интимной лирики, не имеющей отношения к войне. Есть восхитительные короткие стихи: «Начала раздеваться с перчаток, / В энергичных движеньях смела, / Но сначала с лица отпечаток / Небольшого смущенья сняла». Всё стихотворение. И — целая психологическая новелла.
Конечно, Ваншенкин рискнул. Есть в книге и пробелы (не провалы). Но все-таки остается после нее какое-то стойкое ощущение свежести лирического дыхания. Победы над увяданием и тлением. Поэзии, проще говоря.
2008
Алексей Варламов: Старший сын
В мировом фольклоре есть бродячий сюжет. В наиболее известной и законченной литературной форме он воплотился в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Умирает отец, делит наследство между сыновьями. Старшему достается мельница, среднему — осел, младшему — последнее, что у отца есть, кот. Дальше, как в сказке, самым удачливым наследником оказывается младший брат. Его плутоватый кот путем разнообразных постмодернистских махинаций превращает своего хозяина из нищего в маркиза. Он делает это очень просто (хотя на поверхности очень сложно), подменяя причину следствием. Он говорит, что его хозяин маркиз и поэтому ему полагается приличное платье, место в карете и так далее.
Но мы не знаем, что было с остальными братьями. Например, с тем, что остался с ослом. Возможно, он всю жизнь тяжело трудился, добывая хлеб насущный с помощью упрямого и своенравного животного. А может быть, махнул на все рукой, отвел осла на ярмарку, продал, а деньги прокутил в кабаке.
Но труднее всех пришлось старшему брату. Мельница — не кот и не осел. Она не умеет мошенничать, и ее так просто не пропьешь на ярмарке. Это — целое хозяйство. Это не только собственность, но и ответственность. Это наследство в полном смысле слова.
Мне всегда представлялось, что люди культуры и литературы, в частности, примерно делятся на три категории. Одни, имея скромный талант и волю к труду, работают, как проклятые, на ниве культуры, доказывая свое право на существование. Или, если становится невмоготу, если воли маловато, спиваются, кончают с собой или просто бросают к чертям этот адов труд. Другие, обладают не столько талантом, этим даром Божьим (а отношения отца и сына это всегда земная проекция отношений человека с Богом), сколько ловкостью и суммой более или менее удачных «придумок». Они как-то убеждают публику, что они не голь перекатная, а маркизы. Иногда публика им верит. Надо только быть смелее, нахальнее. Надо как можно увереннее опрокидывать традиционные представления о ценностях, о культурной иерархии, и публика непременно дрогнет. И, наконец, третьи, обладая и талантом, и волей к труду, и, главное, чувством ответственности перед наследством, распоряжаются им любовно, но осторожно, приумножая, а не разбазаривая наследство, но и не выдавая мельницу за королевский замок.
Русский литературный человек ХХ, а теперь уже XXI века, особенно обречен осознавать тяжесть доставшегося ему наследства. Отсюда неслучаен и этот футуристический выдох освобождения: «Сбросим Пушкина и Толстого с парохода современности!» Сбросим! Облегчим себе бремя! Но футуристы, по крайней мере, понимали, что это бремя.
В конце ХХ века в русской литературе все перемешалось. Коты, ослы, мельницы, нищие, маркизы — всё было втянуто в соблазнительный водоворот снижения высокого и возвышения низкого и подмены всего всем. Кот Шарля Перро, по крайней мере, вынужден был плутовать достоверно. В конце концов, он предъявил королю реальный замок. В 90-е годы ХХ века и этого не требовалось. Не нужно было доказывать, что ты маркиз. Надо было объявить, что маркиз — это кот. Нужно было сказать, что Лев Толстой — это хохма, это бородатый графоман, а Венедикт Ерофеев — величайший гений всех времен и народов. Не просто талант, не яркий, но частный эпизод литературы, а именно величайший, а Толстой — смешной. Нужно было сказать: я написал три тысячи стихотворений, поэтому я великий поэт. Ведь понятно, что три тысячи стихотворений никто в здравом уме не прочтет. А вдруг как раз не прочитанные стихи и есть гениальные. До этой фантазии не додумался бы и кот Шарля Перро.
Это было время, когда слова и их реальный смысл разошлись непоправимо. Например, Солженицына объявляли литературным диктатором, причем объявляли люди, которые в это время самым жульническим образом прибирали к рукам всю литературную власть, беспардонно диктуя литературную моду.
Именно в это время мы с Варламовым входили в литературу. Мы познакомились в редакции «Литературной газеты», и он подарил мне свою книгу. Я прочитал ее название и понял, что книга мне уже нравится. Она называлась «Здравствуй, князь!» Учтите, что это было время ужасающей, беспорядочной и неряшливой цитатности, «центонности», когда слова в простоте нельзя было вымолвить, когда даже фразу «я вас люблю» нужно было непременно сопровождать ироническим комментарием: «как сказала бы Татьяна Ларина».
«Здравствуй, князь!» тоже была цитата. Но какая!
Это был звук, прежде всего чистый звук. Его хотелось продлить: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Кроме того, это название само по себе дышало каким-то спокойным чувством первородства, уверенности в своем положении в литературе. Сам-то Варламов казался неуверенным в себе. Он говорил, что он преподаватель МГУ, который пишет прозу. Но это все была ерунда, естественная, а может быть и несколько кокетливая стыдливость легитимного русского писателя, который имеет право назвать свою книгу пушкинской цитатой. И, наконец, это было прямое выполнение задания Ходасевича: «аукаться» именем Пушкина в наступающем мраке.
Мне оставалось только прочесть книгу и убедиться, что я не ошибся, откликаясь на это откровенное «ау!»
Потом, читая Варламова, очень по-разному воспринимая разные его вещи, и, наконец, понимая его корневые слабости, которые у хорошего писателя всегда есть продолжения его достоинств (например, отсутствие мускула для сюжетостроения как следствие избыточной исповедальности, исповедальность всегда расслабляет, а сюжет это панцирь, это броня), я всегда помнил этот первый звук. «Здравствуй, князь!»
Князь не князь, но Варламов в литературе несомненно «старший сын». Он, может быть, еще не окончательно литературно «повзрослел», но и есть ли в литературе окончательная «взрослость»? Конечно, бывают вещи удивительные вроде «Героя нашего времени» или «Драмы на охоте», произведений, писавшихся двадцатичетырехлетними людьми, но при этом фантастически «взрослыми». Но то, что Варламов это «старший сын», обладатель не просто наследства, но, выражаясь сегодняшним языком, его «основного пакета», для меня всегда было очевидно. Другое дело, что он не один такой. В его приблизительно поколении я назову и Олега Павлова, и Андрея Дмитриева, и Светлану Василенко (старшая дочь), и Владислава Отрошенко, и малоизвестного липецкого прозаика Александра Титова, и… не буду всех перечислять, чтобы не превращать доклад в отчет о проделанной русским реализмом работе. Но из их совсем недавних предшественников не могу не помянуть уже покойного Геннадия Головина.
На мой взгляд, выбор пал на Варламова не потому, что он крупнее их. Он, я бы сказал, стратегически последовательнее, а стратегия это не последнее дело в писательской судьбе. Можно выдать первую дебютную вещь, которая всех поразит, а потом на всю жизнь остаться «автором такого-то произведения», потому что все последующие вещи будут слабее, без прежней художественной энергии. Потому что автор просто не научился держать дыхание.
У Варламова тоже был шанс навсегда остаться «автором повести «Рождение»». Этот тот случай, когда вещь была написана и хорошо, и вовремя. Невозможно было придумать более ясного и нравственно точного взгляда на революционную смуту начала 90-х годов, когда вместе с СССР могла рухнуть и Россия, чем сквозь больничную палату, где лежит приговоренный к смерти маленький сын. Но в том-то и дело, что Варламов этот взгляд не придумал. Он вообще ничего не придумывает в своих лучших вещах: «Рождение», «Галаша», «Дом в деревне» и других. И, между прочим, самое слабое, что есть в «Рождении» это как раз «публицистика». Но в истории русской литературы нередко бывало, что именно «публицистика» двигала на первый общественный план произведения, которые были «совсем не о том»: «Отцы и дети», «Бесы», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Один день Ивана Денисовича». Так что это нормально.