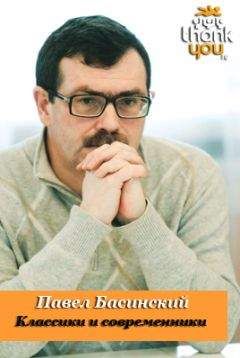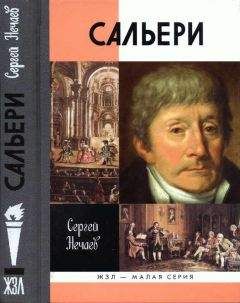Но Варламов не забуксовал на «Рождении». Хорошо зная все его творчество, я вижу, как он сознательно работает в разных жанрах, в разных родах даже. То, что рассказ и повесть — это его жанры, Варламов уже знает. Но вот он попробовал себя в драматургии. Не получилось, не взял крепость. Отошел. Может быть, еще вернется. С другой стороны. Он отчаянно штурмует романистику, именно штурмует, со всевозможных позиций: социально-психологический роман «Лох», историко-детективно-авантюрный «Ковчег», мистический «Купол», политический «11 сентября». Можно сказать, что он пытается идти по всем проторенным дорогам, но все проторенные дороги страшно заросли, и тот, кто этого не понимает — просто счастливый графоман. Он ушел в жанр писательских биографий и добился блистательного успеха; я уверен, что его «Алексей Толстой», который выйдет в этом году в серии «ЖЗЛ», станет литературным событием. В одном из «премиальных» интервью он признался, что его неудержимо влечет история. Это правильно, потому что как большой русский писатель он стал задыхаться без исторического пространства.
Повторяю, что я сейчас говорю не о качестве тех или иных вещей Варламова. Порой он выигрывает в качестве именно в вещах как будто случайных, вроде рассказа «Паломники», прелестной истории о том, как несколько студентов отправились пешком в Троице-Сергиеву лавру. Или в совсем уж неприметном рассказе «Как ловить рыбу удочкой», который хоть сегодня включай в хрестоматию короткого рассказа. Меня больше волнует общая стратегия писательского поведения во время, когда все указатели не просто сбиты, но аккуратно повернуты концами в землю. Меня не пугает слово «стратегия», такое несколько военизированное. Ведь и писатель, чьим именем озвучена эта премия, был бы просто уничтожен в самом начале своего пути, если бы не имел своей стратегии. Сейчас в литературе, конечно, не так страшно, но ничуть не проще сохранить свое самостояние. Может быть, даже и сложнее…
Это стратегия «старшего сына». Старшим сыновьям всегда труднее жить. Балуют младших. Старшим отдают мельницы. Чтобы жизнь медом не казалась. Чтобы помнили о своем первородстве.
2006
Светлана Василенко: Ангел радиации
В степи пионеры выливают суслика. С чувством исполняемого долга льют ведрами холодную воду с хлоркой в сухое, теплое убежище маленького зверя. Обе стороны затаили дыхание: наверху — от нетерпения и любопытства, внизу — от холода, страха и непонятности происходящего. Наконец, зверек не выдержал:
«Он вылез на свет, мокрый, дрожащий, маленький, будто только родился у нас на глазах из чрева земли, — и застыл очарованный.
Божий мир был цел и глядел на него…
Подняв свою душу на задние лапы, он молитвенно сложил свои ручки на груди и, закинув голову, блаженно, подслеповато щурясь, поглядел на солнце.
Мир был цел.
Он тихо свершил свой намаз».
Сколько читаю прозу Светланы Василенко, столько пытаюсь выяснить источник ее идеализма. Для меня очевидно, что он религиозного происхождения, но — как? откуда? Хочется определенности. Хочется «правды».
Дело в том, что в мире, который изображает Василенко и который она, несмотря ни на что, любит какой-то иррациональной женской любовью, жить нельзя, как нельзя жить в суслячей норе после доблестной атаки юных пионеров. Это прóклятый, богооставленный мир. Ракетно-ядерные полигоны, «химия», советские больницы, вернувшиеся из Афганистана солдаты — вот, выражаясь казенным языком, «круг интересов» молодого писателя, а проще сказать — ее среда обитания. Здесь она выросла, это ее мир.
«Карибский кризис» застал ее ребенком рядом с ракетными установками в Капустином Яре близ Волгограда, месте, уже в 60-е годы густо зараженном радиацией; месте, откуда должна была стартовать ракета, нацеленная на капиталистический мир. Отец Василенко сидел тогда возле советской ядерной кнопки. «Я спросила его: «А что вы тогда делали, о чем думали, сидя перед этими кнопками, перед концом света?» Он подумал немного и сказал: «Мы играли в преферанс»».
Читая Василенко, не знаешь, что делать: плакать или смеяться? В ее рассказах, повестях, по верному замечанию Николая Шипилова, сохранилось нечто от «окопной» военной прозы. Но есть в них и доля скептицизма нынешнего поколения, не доверяющего литературе «факта». И что-то еще… еще, чего я, собственно, и не могу понять, но что является, по моему подсознательному убеждению, единственным выходом из современного тупика русского реализма.
Ведь что такое реализм, если рассматривать его не только с литературной, но и — духовной точки зрения? Это мера доверия к Божьему миру, его сокровенному смыслу и — что очень важно! — существующим художественным формам. Состояние духа, давно и прочно утраченное литературой XX века с ее «поисками реальности», стилистическими вывихами и надсадной ломкой суставов живой человеческой речи.
Льва Толстого коробила фраза молодого Горького «море смеялось». Почему? Только ли по причине, что она претила его эстетическому вкусу? В Толстом, справедливо писал Георгий Адамович, возмутилось природное и религиозное чувство. Доверять Богу — значит доверять миру, его формам, значит «не придумывать», но благородно и ясно отражать Его замысел. Кажется, так просто!
Но именно это и означает конец русского реализма. Как же «не придумывать», если сама жизнь, нас окружающая, словно «придумана» кем-то, притом в самых отвратительных формах! Не надо быть слишком мудрым, чтобы понять: мы давно живем в мире, не отвечающем Его замыслу. Это наш, суверенный, «человеческий» мир, в котором каждое новое поколение обречено жить. Разве лагерная жизнь, с кристальной ясностью изображенная Варламом Шаламовым (вот именно — «непридуманная») в «Колымских рассказах», — это Божий мир? И разве возможно появление Тургенева и Пришвина в «районах средней полосы России, локально зараженных после аварии на Чернобыльской АЭС»?
Светлана Василенко, может быть бессознательно, чувствует трагедию русского реализма. Она каким-то чудом избежала влияния современной «натуральной школы» с ее лукавой «объективностью» и критической «подначкой», связанной прежде всего с нравственным высокомерием: мол, посмотрите, в каком скотском состоянии вы живете, вы, люди! «Так жить нельзя» и проч., на чем еще совсем недавно легко было сделать и славу, и деньги. На фоне других реалистов (Юрий Поляков, Александр Терехов, Сергей Каледин), стремящихся поразить читателя остротой социального обвинения, Василенко с ее «наивным реализмом» выглядит несколько старомодно и, я бы сказал, «соцреалистично». Все-то она напевает свою сказочку об огромном, целом и круглом мире, в котором почему-то корчатся в душевных и физических муках Божьи человечки.
Ужасно жалко этих человечков!
А ведь еще Златоуст говорил: «Истинная шехина (Божья ипостась — П. Б.) есть человек». Мир Божий… Люди Божьи… А кругом свинство и грязь. В зараженном радиацией воздухе царит также радиация духовная. И та и другая — невидимы, и лишь последствия их хорошо видны: мутация человеческой природы. Изображать этот тоскливый процесс средствами классического русского реализма невозможно. Теряя доверие к миру, теряешь доверие к Богу и неизбежно впадаешь в грех нелюбви и отвращения.
В рассказе «Хрюша» взрослая дочь из Большого города приезжает в гости к матери в райцентр. «Я возненавидела ее в первый же день. «— Ты! Инженер! — кричит она на мать. — Посмотри, на кого ты похожа, посмотри! На тебя ведь стыдно смотреть, с тобой идти стыдно! Завела свинью! От тебя же свиньей воняет! Я ее зарежу, твою свинью! Колхозница!.. По помойкам ходишь, корки собираешь!» Мать «стоит — высокая, костлявая, некрасивая, обожженные солнцем ключицы выпирают (она любила платья с большим вырезом, и сердце мое всегда накрывало волной злости и жалости, когда я глядела на ее ключицы), нескладная, с птичьими веками, из-за которых маленькие ее глаза казались всегда закрытыми…»
Чего-чего, а жестокости в изображении мира Василенко тоже хватает. Она скупа на детали, но каждая деталь, каждый образ обладают каким-то охотничьим прицелом. Они бьют точно в цель. Вот простая сцена: режут свинью. «У нее было тринадцать сосков, на одной стороне — семь, на другой — шесть. Все соски были друг против друга. А один непарный был закрыт щетиной на груди. Живот опалили, счищали кожу неловко, и соски кровоточили».
В повести «Шамара» кровоточат целые страницы. Шамара — это ангел радиации, мутант, дитя конца века. Вслушайтесь в звучание ее говорящего имени: в этом чудовищном словосочетании слились два образа: царица Тамара и «шалава». Царица Шалава. Теленок о пяти ногах. Между тем, это и есть «русский человек в его развитии», каким он явился на пороге второго тысячелетия. И каким он продолжит род нашего существования, ведь Шамара — женщина. Она умеет любить. И она могла бы, подобно пушкинской Татьяне, сказать о себе: «Я другому отдана…» Только ничего этого не требуется. И кому нужна некрасивая работница «химии» с нелепым прозвищем Шамара?