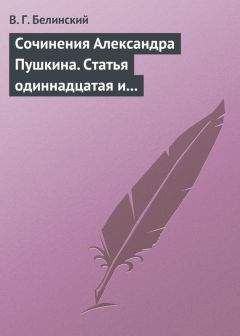Но Полежаев знал не одну муку падения: он знал также и торжество восстания, хотя и мгновенного; с энергической и мощной лиры его слетали не одни диссонансы проклятия и воплей, но и гармония благословений…
Я погибал;
Мой злобный гений
Торжествовал!
Злодей созрелый,
В виду смертей,
В когтях чертей,
Всегда злодей.
Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье;
Окаменей,
Как хладный камень;
Ожесточен,
Как серный пламень, —
Я погибал
Без сожалений,
Без утешений!
Мой злобный гений
Торжествовал!
Печать проклятий —
Удел моих
Подземных братий,
Тиранов злых
Себя самих,
Уже клеймилась
В моем челе,
Душа ко мгле
Уже стремилась…
Я был готов
Без тайной власти
Сорвать покров
С моих несчастий.
Последний день
Сверкал мне в очи,
Последней ночи
Я видел тень, —
И в думе лютой
Все решено:
Еще минута
И… свершено!..
Но вдруг нежданный
Надежды луч,
Как свет багряный
Блеснул из туч:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый
Издавна бог
Из тьмы открытой
Меня извлек!..
Рукою сильной
Остов могильный
Вдруг оживил, —
И Каин новый
В душе суровой
Творца почтил.
Он снова дни
Тоски печальной
Озолотил
И озарил
Зарей прощальной!
Гори ж, сияй,
Заря святая!
И догорай
Не померкая!{22}
В другое время сорвались с его лиры звуки торжества и восстания, но уже слишком позднего, и уже не столь сильные и громкие: посмотрите, какая нескладица в большей половине этой пьесы («Раскаяние»), как хорошие стихи мешаются в ней с плохими до бессмыслицы:
Я согрешил против рассудка,
Его на миг я разлюбил (?!):
Тебе, степная незабудка,
Его я с честью подарил (??)!
Я променял святую совесть
На мщенье буйного глупца,
И отвратительная повесть
Гласит безумие певца.
Я согрешил против условий
Души и славы молодой,
Которых демон празднословий
Теперь освищет с клеветой (?)!
Кинжал коварный сожаленья
Притворной дружбы и любви,
Теперь потонет, без сомненья,
В моей бунтующей крови;
Толпа знакомцев вероломных,
Их шумный смех, и строгий взор
Мужей значительно безмолвных,
И ропот дев неблагосклонных —
Все мне и казнь и приговор!
Как чад неистовый похмелья,
Ты отлетела наконец,
Минута злобного веселья!
Проснись, задумчивый певец!
Где гармоническая лира,
Где барда юного венок?
Ужель повергнул их порок
К стопам ничтожного кумира?
Ужель бездушный идеал
Неотразимого разврата,
Тебя, как жертву каземата,
Рукой поносной оковал?
О, нет! Свершилось – жар мятежный
Остыл на пасмурном челе!
Как сын земли, я дань земле
Принес чредою неизбежной:
Узнал бесславие, позор
Под маской дикого невежды (?!)
И посмотрите – как торжественно окончание этой пьесы; оно может служить образцом того, что называется в эстетике «высоким»:
Но пред лицом кавказских гор
Я рву нечистые одежды!
Подобный гордостью горам,
Заметным в безднах и лазури,
Я воспарю, как фимиам,
И передам моим струнам
И рев, и вой минувшей бури!..
Полежаев никогда бы не был одним из тех поэтов, которых главное достоинство – пластическая художественность и виртуозность форм; которых значение бывает так велико в сфере собственного искусства, и так не велико в сфере общей, объемлющей собою не одно искусство, но и всю область духа; в котором такая бездна поэзии и так мало современных вопросов, так мало общих интересов… Талант Полежаева мог бы сделаться бессмертным, если бы воспитался на плодородной почве исторического миросозерцания. В его поэзии мало содержания; но из нее же видно, что она, по своему духу, должна была бы развиться преимущественно в поэзию содержания. Отселе эта крепость и мощь стиха, сжатость и резкость выражения. Но к этому недостает отделки, точности в словах и выражениях; причиною этого было сколько то, что он небрежно занимался поэзиею и никогда не отделывал окончательно своих стихотворений, заменяя неточные выражения определенными, слабые стихи – сильными, растянутые места – сжатыми; столько и то, что, оставшись при одном непосредственном чувстве, он не развил и не возвысил его, наукою и размышлением, до вкуса. Другой важный недостаток его поэзии, тесно связанный с первым, состоит в неуменьи овладеть собственною мыслию и выразить ее полно и целостно, не примешивая к ней ничего постороннего и лишнего. Причина этого опять в неразвитости и происходящей из нее неясности и неопределенности созерцания. Представляем здесь, в поучительный для молодых поэтов пример подобной невыдержанности, две прекрасные, но испорченные пьесы Полежаева, в совершенно различных родах. Первая называется «Море»:
Я видел море – я измерил
Очами жадными его:
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.
О море, море! – я мечтал
В раздумьи грустном и глубоком, —
Кто первый мыслил и стоял
На берегу твоем высоком?
Кто, неразгаданный в веках,
Заметил первый блеск лазури,
Войну громов, и ярость бури
В твоих младенческих волнах?
Куда исчезли друг за другом
Твоих владельцев племена,
О коих весть нам предана
Одним злопамятным досугом?..
. . . . . . .
Превосходно! Стихи, достойные величия моря! Но то ли далее? —
Всегда ли, море, ты почило
В скалах, висящих над тобой?{23}
Или неведомая сила,
Враждуя с мирной тишиной,
Не раз твой образ изменила?
Что ты? откуда? из чего?
Игра случайная природы,
Или орудие свободы,
Воззвавшей все из ничего?
Надолго ль влажная порфира
Твоей бесстрастной красоты
Осуждена блистать для мира
Из недр бездонной пустоты!
Сбивчиво, темно, неопределенно, хотя и заметно, что у поэта шевелилась на душе мысль! Далее опять лучше:
Вот тайный плод воображенья
Души, волнуемой тоской,
За миг невольный восхищенья
Перед пучиною морской!..
Я вопрошал ее… Но море,
Под знойным солнечным лучом,
Сребрясь в узорчатом уборе,
Меж тем лелеялось кругом
В своем покое роковом.
Через рассыпанные волны
Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырял пред бурей утлый чолн.
Счастливец, знаешь ли ты цену
Смешного счастья твоего?
Смотри на чолн – уж нет его,
В отваге он нашел измену!..
Превосходные стихи, кроме двух последних, которые все портят; но целого не видно, и после начала пьесы как-то не того ожидалось… Но, сообразно с серединою, окончание прекрасно:
В другое время, на брегах
Балтийских вод, в моей отчизне,
Красуясь цветом юной жизни,
Стоял я некогда в мечтах;
Но те мечты мне сладки были:
Они приветно сквозь туман,
Как за волной волну, манили
Меня в житейский океан.
И я поплыл… О море, море!
Когда увижу берег твой?
Или, как чолн залетный, вскоре
Сокроюсь в бездне гробовой?
Вторая пьеса называется «Баю, баюшки, баю»:
В темной горнице постель;
Над постелью колыбель;
В колыбели, с полуночи,
Бьется, плачет, что есть мочи,
Беспокойное дитя.
Вот лампаду засветя,
Чернобровка молодая
Суетится, припадая
Белой грудью к крикуну —
И лелеет, и ко сну
Избалованного клонит,
И поет, и тихо стонет
На чувствительный распев
Девяностолетних дев (??!!..):
«Да усни же ты, усни,
Мой хороший молодец!
Угомон тебя возьми,
О постылый сорванец!
Баю, баюшки, баю!
Уж и есть ли где такой
Сизокрылый голубок,
Ненаглядный, дорогой,
Как мой маленький сынок?
Баю, баюшки, баю!
Во зеленом во саду
Красно вишенье растет;
По широкому пруду
Белый селезень плывет!
Баю, баюшки, баю!
Словно вишенье, румян,
Словно селезень, он бел —
Да усни же ты, буян!
Не кричи же ты, пострел!
Баю, баюшки, баю!
Я на золоте кормить
Буду сына моего,
Я достану, так и быть,
Царь-девицу для него.
Баю, баюшки, баю!
Будет важный человек,
Будет сын мой генерал!
Ну, заснул… хоть бы на век!
Побери его провал!
Баю, баюшки, баю!»
Свет потух над генералом;
Чернобровка покрывалом
Обернула колыбель —
И ложится на постель…
В темной горнице молчанье;
Только тихое лобзанье
И неясные слова
Были слышны раза два…
После, тенью боязливой.
Кто-то – чудилося мне —
Осторожно и счастливо,
При мерцающей луне,
Пробирался по стене…
Какая грубая смесь прекрасного с низким и безобразным, грациозного с безвкусным! Окончание пьесы, в котором заключена вся мысль ее, стоило, чтоб для нее выписать всю пьесу. Истинное эстетическое чувство и истинный критический такт состоят не в том, чтоб, заметив несовершенство или дурные места в произведении, отбросить его от себя с презрением, но чтоб не пропустить немногого хорошего и во многом дурном оценить его и насладиться им.