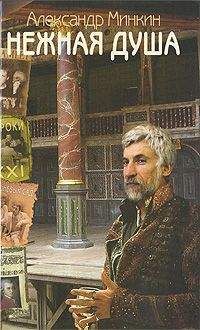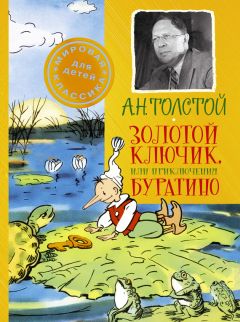И ему, такому, отдан финал?!
Англичанин, чтобы понять, сколько стоит французское вино, пользуется арабскими цифрами (даже не помня или не зная, что они арабские). А чтобы понять француженку, англичанин пользуется русской литературой. Это универсальный ключ.
Почему в СССР такой успех был у Фолкнера? Этот гений копал глубоко и не сходя с места («Деревушка», «Город», «Особняк») – как Достоевский и Чехов, не нуждаясь в путешествиях, ибо дорога в душе бесконечна.
Писатели – пророки. Они все описали раньше, чем ученые изобрели, – и полеты на Луну, и лазеры…
Душу глубже всего объяснили и описали русские в ХГХ веке. Почему так случилось – никто не знает; можно лишь строить догадки. Бессмысленно спрашивать, почему именно тогда, именно там, именно тот сделал открытие. Вопрос решается не здесь.
Надвигалась научно-техническая революция. Взрывной рост производства вещей на душу населения. Вот она и не выдержала, прогнулась. Достоевский, Чехов – проскочили в последний момент.
Дверь захлопнулась. Теперь дикарь не напишет, потому что дикарь. А культурный не напишет, потому что упакован в телевизор и в интернет.
Русские описали душу, и она – русская, хотя, конечно, всеобщая.
Она русская. И навсегда останется ею.
Мы, сегодняшние, тут как бы сбоку-припеку. Так, драгоценный китайский фарфор к сегодняшним китайцам не имеет отношения. Сегодняшний их товар – дрянь.
Идея постоянного развития (прогресса) обманчива. Некоторые вершины пройдены. И, похоже, навсегда.
В музыке это Бах и Моцарт – XVIII век. И если с тех пор (за двести с лишним лет) никто не поднялся выше, то и не будет этого никогда. Во всяком случае, пока цивилизация не изменит направление. Даже в знаменитом фильме «Пятый элемент», где дело происходит в XXIII веке – в далеком индустриальном дурацком космическом будущем, – героя потрясает классическая ария XVIII века. Это косвенное признание того, что не только теперь, но и спустя триста лет (когда будут изобретены машина времени и мгновенное перемещение) музыкальные вершины останутся прежними.
А когда вершина пройдена, путь ведет только вниз.
Сегодня душа опускается, отступает перед телевизором и потребительством (на нее, на душу, просто не остается времени). Она исчезает. Это трудно заметить, когда реклама сверкает ярче солнца, а музыка (теперешняя музыка) грохочет громче грома небесного. Душа исчезает, потому что когда меняется климат, то первым исчезает самое новое, самое хрупкое. (Вымерли динозавры, спустя миллионы лет вымерли мамонты, а тараканы легко пережили все катаклизмы и переживут в отличие от людей даже ядерную войну; на тараканов радиация не действует.)
Скорость передачи информации, грузоподъемность и дальнобойность ракет, число телеканалов, высота домов еще будут расти и расти, а качество вина – нет. Никогда уже не будут воздух и вода так чисты, как сто лет назад – до химического оружия, до атомной бомбы и всей выхлопной и полиэтиленовой грязи, которую круглосуточно выделяет человечество.
Вещей произведено так много, что для души, для мыслей о душе почти не осталось места.
И очень может быть, что вершина познания души была пройдена человечеством в ХГХ веке. Русский флаг на этой вершине вечен.
2008
Я памятник себе воздвиг нерукотворный
Превыше пирамид и крепче меди.
Гораций
Десять килограммов (три романа Достоевского, два – Толстого, три пьесы Чехова) – вот чем завоевана планета. А не триллионом тонн нефти, танков, телевизоров, золота.
Как звали жену Павла Первого, Николая Первого, Александра Первого, Второго, Третьего? А Пушкина – Натали! А еще лучше: Татьяна, Ольга, Евгений, Раскольников, Наташа Ростова, Андрей Болконский, Офелия, Том Сойер, Кот Васька (слушает да ест). Даже Каштанку знаем, собачку-дворняжку, ее характер, вкусы, мечты и всю ее биографию. Толпу литературных героев знаем лучше, чем собственную историю.
Значит, они важнее. Значит, сообщают нам больше, чем хроники, высочайшие указы, рескрипты, манифесты.
За десять лет до премьеры «Вишневого сада».
Четыре грамма.
Шлепнуть – расстрелять без суда и следствия.
В фильме «Блондинка за углом» героиня – нахальная (без комплексов) продавщица гастронома – очаровывает скромного научного сотрудника и его родителей-профессоров.
Пошлый – общеизвестный и надокучивший, неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым; вульгарный, тривиальный. (Словарь Даля.)
Письма здесь расставлены по датам «для Чехова». Он сперва послал свое от 8 марта, а потом получил письмо Книппер от 4 марта. И т. д.
Трудно поверить, но двадцать пять лет назад критика была очень осторожна, вежлива, никого не обижала; разве что из Политбюро прозвучит команда «фас». Но это было редко. А теперь имена критикуемых есть, но критики почти нет. Звучит брань: «скучно», «глупо», «бездарно», а доказательств нет. Настоящая же критика – это анализ, а не ругательства.
Актер «Глобуса», первый исполнитель роли Гамлета.
Строчка из песни Кати Яровой.
Первая публикация в подцензурной советской печати пяти слов из смертельных стихов Мандельштама. Расчет был, как всегда, на своих: мгновенно узнают и вздрогнут.
В середине 1980-х и позже фашизм стал вылезать из подполья вместе с гласностью. Слово «коричневый» для всех тогдашних читателей означало фашист, как «красный» – коммунист, большевик. Термин «красно-коричневые» появился позже.
Тогда много говорилось о двадцами миллионах, погибших в Великой Отечественной. Потом Горбачев сказал – двадцать семь.
Это было страшное межеумочное время: пьесу напечатать уже можно, а правду об авторе сказать нельзя.
Потом эта песня оправдала свой «первый выход». Во втором акте появилась женщина, страшным голосом вскрикнула: «Плачьте все! Отец наш умер!» – это до азиатской пустыни дошла весть о смерти Сталина. И начались его местные партийные похороны. Председатель колхоза и чабаны подняли за ножки накрытый белой скатертью длинный стол «для заседаний» и скорбно опустив голову, пошли по кругу. А в динамиках гремела «Сулико», превратившаяся в рыдающий похоронный марш.
Тогда этот роман читали все. Сегодня…
И эти животные, и эти романы – «Прощай, Гюльсары» и «Белый пароход» – исчезли, а жаль.
Это я на заключительном (послефестивальном) симпозиуме сказал с трибуны, что ничем, кроме чиновничьих опасений, нельзя объяснить отсутствие этого спектакля в Тбилиси. Потом с изумлением прочел свою малость приглаженную речь в «Комсомольской правде». Подписан был текст молодым журналистом (ныне он известный крупный вальяжный телеведущий), а мое имя он, естественно, не упомянул.
В этом тексте, как и почти во всех других, есть игра с хорошим читателем, который (как надеется наивный автор) опознает скрытые цитаты, намеки, реминисценции. Когда автору его собственный текст начинал казаться излишне пафосным, он (автор) сам себе устраивал снижение. Соединение в одной фразе обнаженного эффекта с обнаженным же дефектом должно отправить хорошего читателя прямиком к «Гамлету».
В 1987 году фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние» стал культовым, прошел по всему миру как символ Перестройки. В фильме два времени: наше и – время террора, Сталина, Берии. Махарадзе играл «в прошлом» – Берию (которого в фильме звали Варлам Аравидзе), «в настоящем» – сына Берии (в фильме – Авель Аравидзе), ставшего то ли партийным боссом (вроде секретаря обкома КПСС), то ли мафиози. Женщина (вернувшаяся из ГУЛАГа?) выкапывает и выбрасывает из могилы труп Берии, а сын мафиози (внук мертвеца) стреляется, не в силах жить с пониманием, кто его отец и дед. Связь времен распадается, не склеишь. Но путь указан. В финале древняя, сгорбленная, но бодрая старуха (великая Верико Анджапаридзе сыграла последнюю в жизни роль) спрашивает кого-то: «Эта дорога ведет к храму?» – «Нет». – «А зачем дорога, если она не ведет к храму?». Это последние слова фильма. Они очень понравились, их все цитировали. «Дорога, ведущая к храму» стала фразой эпохи, слоганом. Как ни странно, слоганом вполне атеистических демократов. Но до сердца эти слова, видимо, не дошли. Их начали произносить все, как все начали стоять со свечкой.
Отец Майи был арестован, и она (советская пионерка) писала Сталину, защищая отца. Семья тогда жила в Москве, в коммуналке. Однажды ночью к ним постучала соседка с безумными глазами: «Портрет! Портрет пришел!». Они выбежали к входной двери, а это Сталин. Прошел в комнату, посадил Майю на колени: «Это ты, пионэрка, мне писала? Не бойся, разберемся».