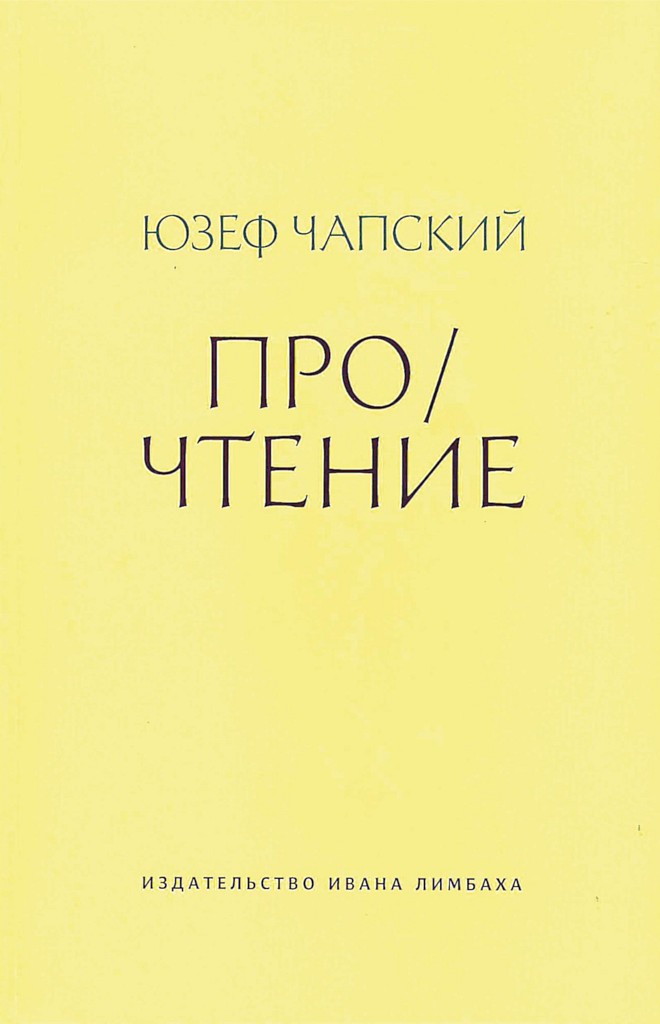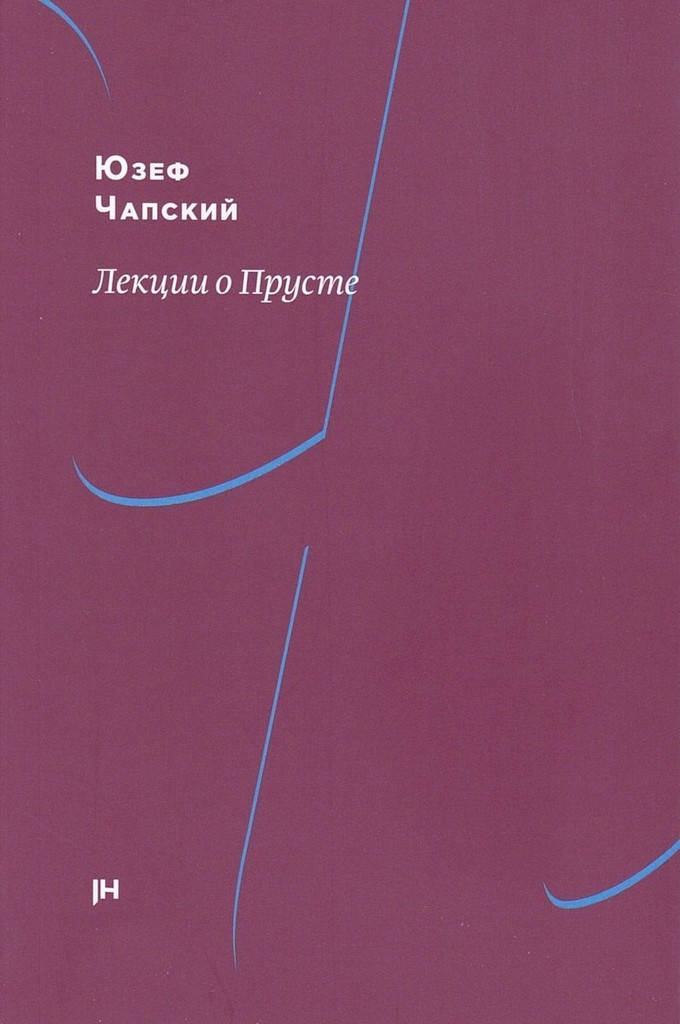воли, ни слова, ни души. Умер. И пробуждаюсь, открываю глаза, когда догадываюсь или подозреваю, что «общественность» выскочила из человека (соседа, ближнего).
Когда весь пафос русской интеллигенции состоял в политической и общественной борьбе, Розанов в полуюмористическом «призыве» к народу сообщает ему «громовую» весть, что важнее всего — частная жизнь… «Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца» («Уединенное»). Это даже более общее, чем религия, — потому что все религии пройдут, а это останется: сидеть на стуле и смотреть вдаль. Ставя не раз в своих высказываниях под сомнение основы существования России, борясь с христианством, Розанов в социальном плане был, однако, гораздо ближе к русским консерваторам и реакционерам, чем к тогдашним левым.
Часто писатель возвращается к мысли, что вся русская литература, кроме Толстого, неконструктивна, что это история студента и проститутки, то есть людей, органически не работающих, не имеющих родины, история людей бесплодных. «Малую травку родить — труднее, чем разрушить каменный дом» (Там же). Розанов не верил в плоды великих переворотов, в «астрономические» политические, общественные мечты, у него был культ тихой работы, культ семьи, усердно трудящейся для своего пропитания, культ органического труда. Он, в общем-то, не любил писателей, блестящих политиков, знаменитостей — а любил самых что ни есть внешне серых людей, в поте лица добывающих хлеб для своей семьи, и прежде всего людей живой религиозности.
Отношение Розанова к политическим вопросам было безгранично безответственным. Он сам признается, что вступил в партию октябристов только потому, что у жены того, кто его уговаривал, были чудесные плечи, а его сестра была замечательной девушкой. День издания царского указа о даровании России конституции Розанов проводит преспокойно… в бане. Но он и сам пишет о себе категорически, что всегда гораздо больше интересовался своими калошами, «крепки ли», чем убеждениями, — и совершенно не может понять людей, во имя убеждений отказавшихся от возможности конкретной работы — отправившихся в ссылку, в эмиграцию. Он был готов на любой компромисс, лишь бы не отрываться от своих мыслей и писания, от пребывания в гуще русской жизни. Когда пишет о Чернышевском [279], Розанов сокрушается, как российское правительство могло не использовать его (несмотря на его взгляды, которые Розанов, естественно, считает пустяками), как оно могло не использовать его ноги и крылья; по мнению Розанова, Чернышевский был очень среднего ума, но совершенно уникален как резервуар энергии и благородного энтузиазма [280]. Розанов не понимает, почему сам Чернышевский, «чувствуя в груди» такой запас энергии и благородного энтузиазма, не «расцеловал ручки всем генералам» и вообще не целовал «кого угодно [281] в плечико» (Там же), лишь бы ему дали «департамент», лишь бы дали помочь народу. Говоря о социал-демократах, то есть о людях от него наиболее далеких, он обнаруживает то же самое равнодушие к «идеологическим» различиям и утверждает, что если бы он правил Россией, то разрешил бы всем порядочным революционерам работать на высоких должностях, рассматривая их убеждения как «временное умопомешательство»; отдал бы им даже целый уезд на съедение или расцвет, может, что и вышло бы из этого, так почему государству не воспользоваться [282].
Что означают все эти фантастические планы? Лишь то, что для Розанова существовали его идеи, вопросы пола и религии, существовала его семья, ради которой он работал и которую любил больше всего на свете, существовал человек, не человечество, а человек из плоти и крови, с недостатками, немощами и тихой скрытой болью абсолютно независимо от тех или иных его убеждений. А все, что касалось абстрактных умственных формул, крупных организмов, общественных, политических аппаратов, — все это было для него совершенно чужим, попросту непонятным. Он искал в партиях не идейное содержание, а моральные ценности. Розанов признается, что был почти революционером около 1900 года, потому что тогда все, кто правил Россией, были слишком самодовольны, но перешел в лагерь реакции после 1905 года, когда сами революционеры стали гордыми и гадкими.
Каждый поступок в общественном поле требует последовательности, а не только эмоциональной позиции, смена направления мысли, смена предпосылки вынуждает человека, ответственно относящегося к своим поступкам, изменить поведение. Розанов умел почти одновременно «думать противоречиво» о фундаментальных вопросах бытия и вследствие этой постоянной переменчивости убеждений никогда не делал из них ответственных, жизненных выводов.
Что удивляться его общественно-политическому непостоянству, несознательности, если в области религии, самой для него важной области, Розанов умудрялся до конца дней быть верным сыном и прихожанином Православной церкви и при этом автором ряда книг более или менее явно антихристианского содержания. Будучи в жизни всегда пассивным, он желал лишь писать на свои темы, иметь достаточно денег, чтобы содержать семью, собирать старинные монеты, которыми по-настоящему увлекался. Ради первых двух целей он был готов на любые компромиссы без малейших угрызений совести. Как он сам писал, у него был дар видения, но не было дара выбора.
Несколько лет Розанов сотрудничал с реакционным «Новым временем», куда попал отчасти из-за высоких гонораров, которые там платили; в то же время пописывал в либеральное «Русское слово» под псевдонимом Варварин, как в другие радикальные журналы.
Во время громкого процесса Бейлиса, когда дело о ритуальных убийствах будоражит общество всей России и антисемитское движение приводит к ряду кровавых погромов, Розанов — друг евреев и апологет иудаизма — пишет статьи, в которых утверждает, что принесение в жертву невинных заложено в еврейской религии. Даже «Новое время» не хочет их публиковать; в тогдашней атмосфере они могут отразиться в массах самым худшим эхом. Тогда Розанов печатает их в погромной газетенке, черносотенной «Земщине». За это его собственные друзья исключают его из Религиозно-философского общества, несмотря на то что он был одним из его основателей. Его увольняют и из «Русского слова». После начала войны Розанов впадает в националистическое безумие, никто не пишет более антисемитских статей, чем он. А уже в семнадцатом году он в шутку предлагает отдать Россию Германии. Немцы так хорошо умеют управлять именно потому, что они «совершенно глупы и почти бездушны», так пусть правят Россией и работают на русских, которые ни работать, ни управлять никогда не умели, а русские взамен за это научат их «песням и молитвам», то есть тому, в чем действительно гениальны.
Аполитичность Розанова тесно связана с его глубоким аморализмом. Он пишет, что слово