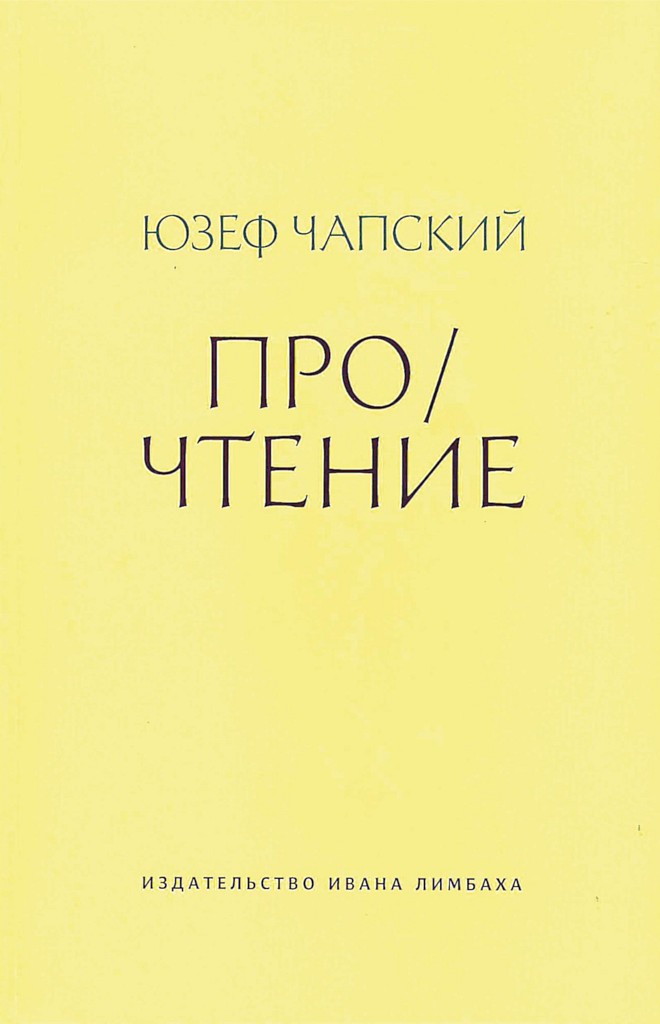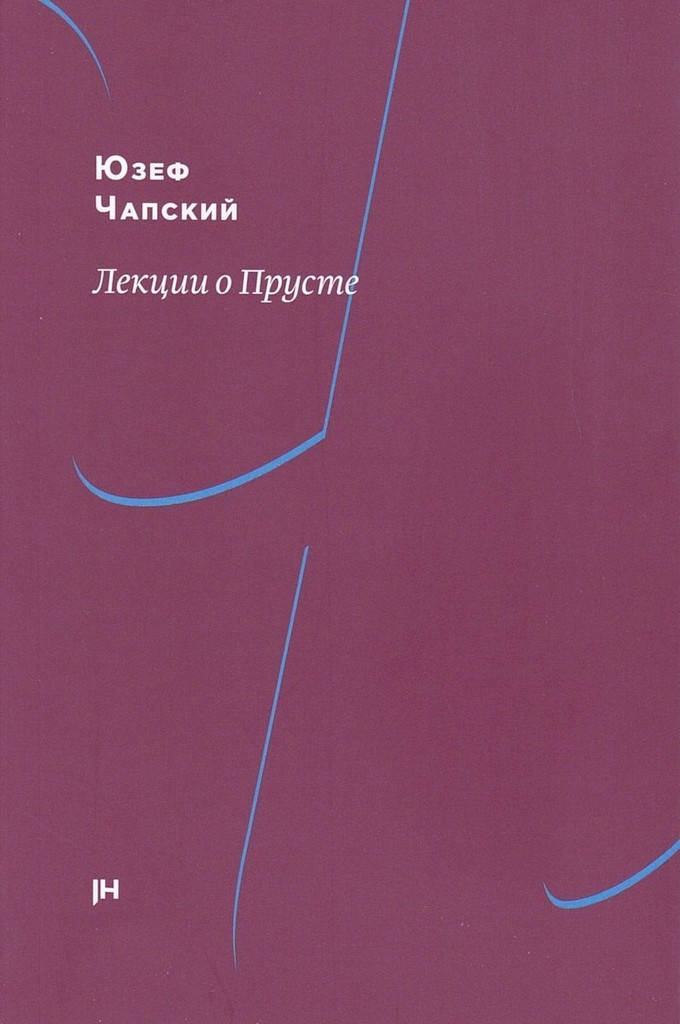видит, что стоит на том же месте. Бесконечная Милость выхватила его, как бесчувственную добычу, из звериных лап и пасти. Этот Всемогущий Друг удерживает его от манящего мрачного взгляда бестии, которая голодна, но не спешит и поджидает, затаившись поблизости. Вокруг человека спит природа — отдаваясь южному ветру, бурному ливню, солнцу, тени и не помышляя ни о каком сопротивлении… Тело перенимает их пассивность, пока не почувствует на лице дыхание; это бестия приползла, она уже близко, и человек успевает лишь прошептать слова спасения Domine ad adjuvandum me festina [287].
У Розанова мы никогда не найдем этого драматизма, ни капельки сил он не тратит на борьбу с бестией, эта бестия для него — ручной зверь, благословленный самим Богом. Если что-то и подталкивает Розанова к тому, чтобы возлюбить подлинную добродетель, к любви и самоотречению, так это забота о человеке, «которая только ищет причину, чтобы развиться в боль порой нестерпимую» [288].
С возрастом на Розанова все сильнее давит неизлечимая болезнь жены, смерть, которая в любой момент может забрать самое любимое существо, он оглядывается на свою жизнь и записывает:
Только в старости узнаёшь, что «надо было хорошо жить». В юности это даже не приходит на ум. И в зрелом возрасте — не приходит. А в старости воспоминание о добром поступке, о ласковом отношении, о деликатном отношении — единственный «светлый гость» в «комнату» (в душу) («Уединенное»).
V. Гипотеза любви
Последний акт кровав, как бы ни была весела вся остальная пьеса.
Потом бросают горсть земли на голову — и дело с концом [289].
Паскаль
«Если нужно было бы что-то делать ради уверенности, не стоило бы ничего делать ради религии, она сомнительна» [290], — пишет Паскаль, а его ученик Мориак признается: «Недостаток веры сдерживает порыв сердца. Сами апостолы, хотя и жили рядом с Христом, просили его: „Господи, укрепи в нас веру“, а он отвечал им: „Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей…“».
Как горчичное зерно. Так что же такое вера? Не только ли ужас? Надежда на бессмертие, страх перед обреченностью?
Героиня романа Мориака «Destin», Элизабет Горнак, прожила жизнь как благочестивая католичка и бережливая хозяйка. Вдруг она полюбила молоденького испорченного мальчика, который погибает в автокатастрофе. Набожный сын Элизабет утешает сраженную болью мать, говоря о вечном блаженстве, которого, должно быть, удостоился покойный, потому что в последний момент успел примирится с Церковью. И вдруг эта верующая женщина, которая ни разу в жизни не испытала и тени сомнения в догматах Церкви, восклицает: разве Бог явил тебе откровение? Мы знаем лишь одно, что тело его в земле, что оно гниет, что ничьи глаза его больше не увидят, ничья рука до него не дотронется, только это факт. А остальное…
Как религия Розанова проходит испытание смертью?
Около 1907 года заболевает его жена; в 1910–1911 годах он пишет «Уединенное»; 1912–1913 годах — период написания «Опавших листьев», время, когда Розанов впервые в жизни из-за болезни жены посмотрел в глаза смерти. Тогда же, разменяв шестой десяток, он оглядывается назад, подводя итог своей жизни. Смерть становится для него делом личным, и с этой позиции он переоценивает ряд житейских и философских взглядов. Розанов, много лет писавший о религии, боролся с христианством как с религией смерти, увлекаясь Древним миром, иудаизмом, Ветхим Заветом; но о смерти он говорил и писал как об абстракции. Внезапно неизлечимая болезнь «друга», жуткий страх за ее жизнь оказывается для Розанова откровением:
Смерти я совершенно не могу перенести.
Не странно ли прожить жизнь так, как бы ее и не существовало. Самое обыкновенное и самое постоянное. Между тем я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было.
Самое обыкновенное, самое «всегда»: и этого я не видал.
Конечно, я ее видел: но, значит, я не смотрел на умирающих. И не значит ли это, что я их и не любил.
Вот «дурной человек во мне», дурной и страшный. В этот момент как я ненавижу себя, как враждебен себе («Опавшие листья», т. 1).
Теперь Розанов вспоминает ушедших дорогих ему людей и корит себя за равнодушие к их смерти, поверхностность своего чувства. Он пишет о смерти «бабушки» (как он называл мать жены), старушки, которую любил и которой посвятил трогательное воспоминание в «Уединенном». Он помнит, что грусть его была «по ней», «о ней», но помнит и то, что в нем самом ничего не поменялось, что он жил, как прежде, и говорит, что в этом состоит самое страшное в смерти: чувство, что мы не нуждаемся в ушедших безоговорочно, что вещи, люди имеют соотношение, только пока живы, но в них самих отношений нет [291]. И он думает о своей смерти и о смерти жены, задаваясь вопросом, как ощу-тят это дети. Поплачут, погрустят и дальше будут жить, а «конец» будет только для нее, его жены, и для него [292]. И вдруг на Розанова нисходит мгновенное осознание временности, конечности всего и связанной с этим бесполезности жизни и любого усилия. «Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла» (Там же).
Розанов «открывает» смерть и со свойственной ему восприимчивостью, мгновенной непосредственностью «выражает», записывает все вибрации мысли о смерти. Общая позиция Розанова по отношению к христианству не меняется, его постоянные колебания только усиливаются. Он по-прежнему и все быстрее, резче перебрасывает мысли от крайности к крайности, от язычества к христианству и назад; но близость смерти придает всему написанному все более явный тон личной трагедии.
При этом все чаще возникает новая нота, нота сомнения. «Если 50 лет жизни, все эти годы, помноженные на труд жизни, на любовь, надежду,